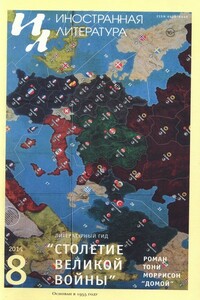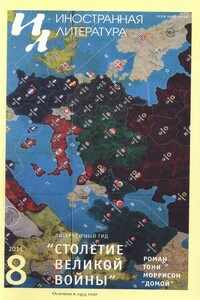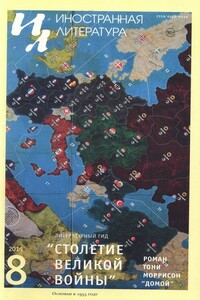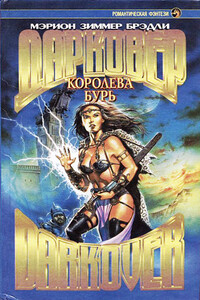Хулио Кортасар
О книге Франсуа Порше «Бодлер. История души»
Вступление Бориса Дубина
Родившийся в первый месяц мировой войны, полуторагодовалым ребенком оказавшийся с семьей под немецкой оккупацией в Брюсселе, начавший кропать стихи и прозу, не достигнув десятилетнего возраста, много мотавшийся по аргентинскому захолустью и большому миру Хулио Кортасар долго себя искал. В качестве автора прославивших его новелл (а затем и романов) он дебютировал в прессе под собственным именем поздно, тридцатилетним, первую же книгу выпустил и вовсе в тридцать семь, однако годы ученичества продолжились и потом. Школа — важный локус кортасаровской вселенной, посему имеет смысл вспомнить, у кого он учился, среди кого себя осознавал и на кого ориентировался в начале пути. Оставляя сейчас в стороне формировавшую его живопись, фотографию, музыку, в том числе — джазовую, остановлюсь только на литературе.
За сороковые годы Кортасар напечатал, среди других, заметки, рецензии, эссе об Артюре Рембо, Антонене Арто, Джоне Китсе, в пятидесятых опубликовал том собственных переводов из Эдгара По. Отбор показателен. В этот круг знаковых фигур новейшей словесности (причем в большой мере и едва ли не прежде всего — поэзии) — от романтиков до высокого модернизма — входил для него и Бодлер, заметка 1949 года о котором приводится ниже. Отмечу в ней два момента: важнейший для Кортасара упор на «высший реализм» первого поэта современной эпохи и сложную траекторию кортасаровского взгляда. Рецензент биографической монографии о Бодлере отказывается и сводить его значение к конкретной исторической эпохе, пятидесятым годам XIX века, и вставать в некую позицию мнимого превосходства над нею и над ним столетие спустя, как бы забыв о том, чем современность обязана этому прошлому. Такая рефлектирующая дистанция при страстной заинтересованности предметом — тоже, по-моему, значимая часть бодлеровского наследия, всю жизнь поглощавшего его «культа образов».
И еще о прошлом, но теперь совсем близком. В начале «нулевых» Элла Владимировна Брагинская (1926–2010), первооткрыватель и один из лучших переводчиков Кортасара, заботливо собрала, откомментировала, а во многом и перевела его эссеистику, выпустив ее в 2002 году двумя небольшими книгами. Среди нескольких вещей, которые по ее великодушному предложению перевел тогда и я, должна была оказаться рецензия Кортасара на биографический том Порше о Бодлере. Но так получилось, что к сроку я не поспел, даже начинать работу было уже поздно и несколькими важными страничками пришлось, увы, пожертвовать. С благодарностью возвращаю теперь этот долг памяти.
* * *
Еще и сегодня легко оказаться несправедливым к поэзии Бодлера и начать с того, что всякий большой поэт-де опережает свое время, но не хочет порывать с ним, поскольку твердо опирается на его почву, готовясь к прыжку. Достаточно критику опуститься на уровень тротуара (вернувшись в Париж 1850 года), чтобы с полным, казалось бы, основанием перечеркнуть многие страницы «Цветов зла». Несправедливость и заключается здесь в пешеходной аргументации, между тем как единственно возможным было бы рассуждение на уровне поэзии, которая преображает обыкновенный толчок пяткой (со всеми ее изъянами) в чистейший полет по воздуху. Любопытно, что сегодняшняя несправедливость в отношении Бодлера руководствуется совершенно другими мотивами, чем у его современников, теперь она вооружена впечатляющим критическим аппаратом, предусмотрительной деликатностью. Если говорить совсем коротко, судьи на процессе против «Цветов зла» видели в книге пороки внелитературные, смешение поэзии с безнравственностью; сегодня же (и опираясь, как ни парадоксально, на глубокие прочтения Бодлера) «Цветы» упрекают за чрезмерную усложненность, неустранимый литературный порок. Такие понятия, как «безвкусица» и «испорченность», относились в 1857 году к морали и эстетике автора; теперь в них подозревают его произведения. Более утонченная, нынешняя несправедливость, по сути, идет от того же самого: она плохо различает, что бодлеровская поэзия отражала в настоящем и что наметила на будущее. Иными словами, не различает относительное и абсолютное в «Цветах зла».
Уточню. Под относительным я понимаю исторические обстоятельства, в которых писал Бодлер на закате романтизма, имея Гюго, Мюссе, Ламартина по правую руку, Виньи — посередине, а Готье, Леконта де Лиля и Банвиля — с другого, левого фланга. И все же, погружаясь в эти обстоятельства и совершая другие ошибки помимо продиктованных вкусами эпохи, Бодлер, вместе с тем, недвусмысленно отвергает принятые авторитеты и дерзко следует собственному образу жизни. Нередко праздновавший труса, он был самым отважным среди поэтов в ту эпоху бесчисленных капитулянтов и образумившихся блудных сынов. Да, он искал благосклонности критиков, дрожал перед Сент-Бёвом, но при этом написал, напечатал и выстрадал «Цветы зла». Да, он мечтал попасть в Академию, но при этом оставался самым острым и бесстрашным критиком искусства своих современников. Так что его недоброжелатели были вынуждены ограничиваться дежурными упреками в неких косвенных влияниях на творчество, оригинальное и новое, даже если брать слабые стихи поэта, в некоторых его риторических жестах, нацеленных на компромисс (своего рода le calumet de la paix