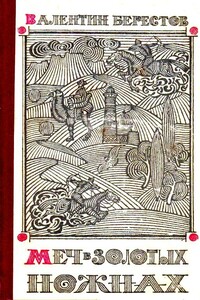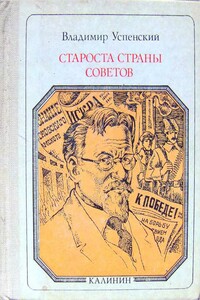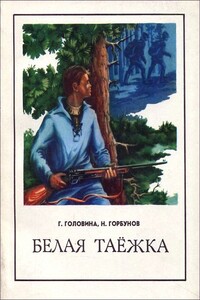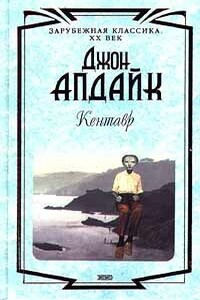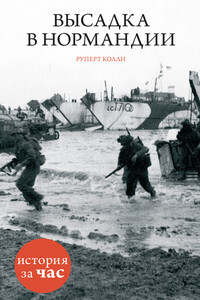Санька — это я сам, Гринька — мой закадычный друг, а о девчонках потом.
Живем мы, как говорит мой отец, в захудалой глухой деревушке. А почему она глухая — нам совсем непонятно. По-моему, отец ошибается. Наша деревня, наоборот, очень даже звонкая: на одном конце разговариваешь — на другом все слышно. А если посильнее крикнуть или сунуть два пальца в рот и свистнуть, аж по всему лесу так и покатится.
Правда, возле нашей деревни нет шоссейных дорог, а железных и подавно, но говорят, что скоро проведут. А пока, конечно, добраться к нам очень даже трудно. А осенью прямо слезы. Только на гусеничном тракторе, да и на нем знаючи. И знаючи-то Митька, наш механизатор, на прошлой неделе влетел в колдобину возле Лисьего бору чуть не по самую трубу. Мужики поначалу смеялись над Митькой, а потом, когда откапывали трактор, ругали его на чем свет стоит.
Мы тоже помогали откапывать. Да и не только мы, все наши мальчишки копошились возле железной громадины. Еле вытащили двумя тракторами и поставили на берегу реки у кузницы.
Митька потом целую неделю отмывал свою железину. А после крутил-крутил заводную ручку, взмылился, плюнул и разобрал трактор на мелкие части. Видно, в нутро грязь попала.
А нам с Гринькой хоть в нутро грязь и не попала, а на штаны и куртку нацепилось, пожалуй, не меньше, чем на этот самый трактор.
Мать как взглянула на меня, так и ахнула. Она и сейчас нет-нет да и треснет меня по загривку и все приговаривает.
— Погибели на тебя нет, соломенная голова.
А штаны и куртка так и висят в сарае. Мать постирала и повесила сушить их. А на днях ударил мороз, и они стали как железные. Грохнешь по ним палкой — звенят. Но меня это не расстраивает. Пусть висят сколько им хочется. Мать с отцом поругали-поругали и купили мне новые штаны и куртку. Правда, немного великоватые. Рукава приходится подгибать, а штаны засучивать. Но я не обижаюсь. Мне всегда покупают одежку, как поясняет мать, с запасом. А на что мне нужен этот запас, убей не пойму.
Прошлым летом забрались мы к Марье Шиковой в огород за помидорами, а она увидела. Схватила прут — и за нами. Все мальчишки убежали, и я бы убежал — я не тише их бегаю, — но у меня на штанах запах распустился. Я запутался и упал. А Марья и рада. Думала, что догнала, и так меня отходила, что я после целых две недели глядеть не мог на чужие огороды.
А еще говорят, что запас карман не дерет.
Однажды подрались мы с Гринькой, и подрались-то из-за пустяка — из-за сломанной лыжи. И не то чтобы подрались, скорее он меня вултузил, а я только отмахивался. Он длинный верзила, и рукава у него по локти, а у меня с запасом. Пока я искал кулак в своем рукаве, он мне весь нос расквасил и лыжу забрал. Такая драка не по-честному, я так и сказал Гриньке, a он прищурился и говорит:
— А зачем ты хотел мою лыжу взять?
— Так это, — говорю, — моя лыжа. Я ее нашел первым.
— Нет, моя, — говорит Гринька, — я ее увидал первый.
— Где же, — говорю, — Гриньк, ты ее увидал, ежели я ее нашел?
— А я ее, — говорит, — еще летом видал.
— Ну и что, что летом. Мало ли что я летом видал.
— А что, — говорит, — ты летом видал?
— Ну…
— Вот, — говорит, — и ну.
Я разозлился и говорю:
— Танк я видал.
— Вот, — говорит, — и бери свой танк. А лыжа моя.
— Так как же, Гриньк, я его возьму?
— А я, — говорит, — не знаю.
— Не знаешь, — говорю, — а за что ты меня по носу двинул?
— А я, — говорит, — не двигал, я только дотронулся.
— А-яй, — говорю, — дотронулся, коли кровь пошла.
— Это, — говорит, — у тебя нос такой хлипкий.
— Хлипкий, у меня искры из глаз посыпались.
— Искры, — удивился Гринька, — врешь, я что-то не видал.
На этом мы и разошлись и не встречались долго. Пожалуй, до самой зимы. А потом нам надоело сердиться, и мы помирились.
Гринька — он ничего, отходчивый. Он первый пришел ко мне и говорит:
— Сань, пойдем на лыжах кататься?
А я говорю:
— Да я, Гринь, уроки не выучил.
А он говорит:
— Брось, все равно все книжки не выучишь.
— И правда, Гринь. Учу-учу и никак не пойму.
— Чего?
— Да вот о расширении тел.
— О! — вскрикнул Гринька. — Это проще простого. От тепла тела расширяются, а от холода сжимаются. Например, летом дни длиннее, а зимой короче.
Я посомневался, посмотрел на Гриньку: шутит он или серьезно. Гляжу, он такой важный, говорю:
— Ладно, Гриньк, пойдем кататься.
Вышли на улицу. Смотрю, у Гриньки две лыжи, и обе отремонтированы. Одна — впереди ремня, другая — позади. А так лыжи что надо.
Гринька заметил мое восхищение и говорит:
— Сам сколачивал. Надежно. Вишь, сколько гвоздей.
— А как же, — ответил я, — вижу. — Потрогал лыжи руками. — Почти что железные.
— То-то, — загордился Гринька, — износу не будет.
Он вскинул лыжи на плечо, и мы зашагали на гору. И не на ту, на которой катается всякая там чегашня, а на самую крутую. По дороге к этой горе к нам прицепился младший Гринькин брат Васек.
— Ты кататься не будешь, — отрезал Гринька. — Можешь не ходить. Соплив больно.
— Да я, Гринь, так, — проканючил Васек. — Я, Гринь, только поглядеть.
— Поглядеть, это можно, — милостиво разрешил Гринька.
На вершине горы мы с Гринькой немножко поспорили. И ему хотелось катиться первым, и мне.