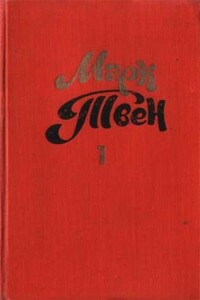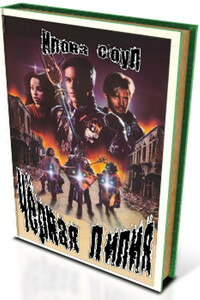Бахыт Кенжеев родился в 1950 году. Окончил химфак МГУ. Поэт, прозаик, эссеист. Живет в Канаде. Лауреат поэтической премии “Anthologia” (2005).
* *
*
Мой земноводный Орион за облаками схоронен,
и пусть. Оставшийся недолог.
Еще сияет сквозь метель серебряная канитель
на иглах выброшенных ёлок,
но рождество и новый год уже прошли, как все прейдет;
знать, вечен разве представитель
ахейских склочников-богов, читай — ремесел и торгов
голенокрылый покровитель.
Шарф клетчатый, ушанка из Шанхая, взгляд — вперед и вниз,
пищит в руке мобильник алый.
Он счастлив: бойкое свистит, над мостовой легко летит
на зависть лире и вокалу.
Подумаешь! Я тоже пел, хоть и неточно; я скрипел
железным перышком начальным
и будущее зрил насквозь; единственно — не довелось
царить над городом случайным.
Но страшно жить в стране теней, неспешно сращиваясь с ней,
и елисейскими лугами
брести по снегу, торопя жизнь, повторяя про себя:
я веровал, но мне солгали.
Зима от робости бела. Стакан на краешке стола.
Что было сила — стало слабость.
Осклабясь, выпивший поэт твердит погибшему вослед:
Лаос, Онега, Санта-Клаус.
* *
*
A собраться вдруг, да накрыть на стол…
Александр Сопровский
1
Голосит застолье, встает поэт, открывает рот (кто его просил?).
Человек сгорел — бил тревогу Фет, но Марию Лазич не воскресил.
Человек горит, испуская дым, пахнет жженым мясом, кричит, рычит.
И, январским воздухом молодым не утешившись, плачет или молчит.
Ложь, гитарный наигрыш, дорогой. Непременно выживем, вот те крест.
Пусть других в геенне жует огонь и безглазый червь в мокрой глине ест.
И всего-то есть: на устах — печать, на крючке — уклейка, зверь-воробей
в обнаженном небе. Давай молчать. Серой лентой обмётанный рот заклей,
ибо в оттепель всякий зверь-человек сознает, мудрец не хуже тебя,
что еще вчера небогатый снег тоже падал, не ведая и скорбя,
и кого от страсти господь упас, постепенно стал холостая тень,
уберегшая свой золотой запас, а точнее — деньги на черный день.
2
Что есть вина, ma belle? Врожденный грех? Проступок?
Рождественская ель? Игрушка? Хлипок, хрупок,
вступает буквоед в уют невыносимый,
над коим царствует хронограф некрасивый.
Обряд застолья прост: лук репчатый с селедкой
норвежскою, груз звезд над охлажденной водкой,
для юных нимф — портвейн, сыр угличский, томаты
болгарские. Из вен не льется ничего, и мы не виноваты.
О, главная вина — лишай на нежной коже —
достаточно ясна. Мы отступаем тоже,
отстреливаясь, но сквозь слезы понимая:
кончается кино и музыка немая
останется немой, и не твоей, не стоит
страшиться, милый мой. Базальтовый астероид,
обломок прежних тризн, — и тот, объятый страхом,
забыл про слово “жизн” с погибшим мягким знаком.
Да! Мы забыли про соседку, тетю Клару,
что каждый день в метро катается, гитару
на гвоздике храня. Одолжим и настроим.
До-ре-ми-фа-соль-ля. Певец, не будь героем,
взгрустнем, споем давай (бесхитростно и чинно) —
есть песня про трамвай и песня про лучину,
есть песня о бойце, парнишке из фабричных,
и множество иных, печальных и приличных.
* *
*
В сонной глине — казенная сила,
в горле моря — безрогий агат,
но отец, наставляющий сына,
только опытом хищным богат.
Обучился снимать лихорадку?
Ведать меру любви и стыду?
Хорошо — шаровидно и сладко,
словно яблоку в райском саду.
Пожилые живут по науке,
апельсиновой водки не пьют
и бесплатно в хорошие руки
лупоглазых щенков отдают.
Да и ты, несомненно, привыкнешь.
Покаянной зимы не вернешь,
смерть безликую робко окликнешь,
липкий снег на губах облизнешь.
Вот и мудрость, она же чревата
частным счастием, помощью от
неулыбчивого гомеопата,
от его водянистых щедрот.
И, под скрип оплывающих ставен
погружаясь в бездетную тьму,
никому ты, бездельник, не равен,
разве только себе самому.
* *
*
Любовь моя, мороз под кожей!
Стакан, ристалище, строка.
Сны предрассветные похожи
на молодые облака.
Там, уподобившийся Ною
и размышляя о родном,
врач-инженер с живой женою
плывут в ковчеге ледяном,
там, тая с каждою минутой,
летит насупленный пиит,
осиротевший, необутый,
на землю смутную глядит —
но аэронавт в лихой корзине
в восторге возглашает “ах!”
и носит туфли на резине
на нелетающих ногах,
и все, кто раньше были дети,
взмывают, как воздушный шар,
как всякий, кто на этом свете
небесным холодом дышал.
* *
*
Птичий рынок, январь, слабый щебет щеглов
и синиц в звукозаписи, так
продолжается детская песня без слов,
так с профессором дружит простак,
так в морозы той жизни твердела земля,
так ты царствовал там, а не здесь,
где подсолнух трещит и хрустит конопля,
образуя опасную смесь.
Ты ведь тоже смирился, и сердцем обмяк,
и усвоил, что выхода нет.
Года два на земле проживает хомяк,
пес — пятнадцать, ворона — сто лет.
Не продлишь, не залечишь, лишь в гугле найдешь
всякой твари отмеренный век.
Лишь Державин бессмертен, и Лермонтов тож,
и Бетховен, глухой человек.
Это — сутолока, это — слепые глаза
трех щенят, несомненно, иной
мир, счастливый кустарною клеткою за
тонкой проволокою стальной.
Рвется бурая пленка, крошится винил,
обрывается пьяный баян,
и отправить письмо — словно каплю чернил
уронить в мировой океан.