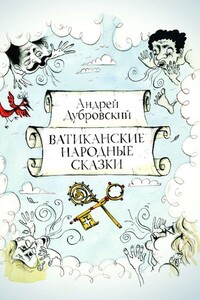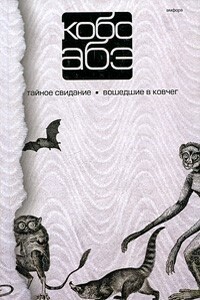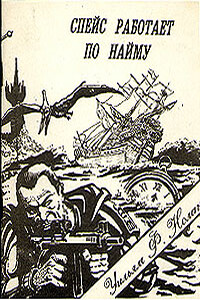![]()
Салимон Владимир Иванович родился в Москве в 1952 году. Самобытный российский лирик; постоянный автор нашего журнала. Живет в Москве.
* *
*
По осени в часы ночные
умолкнут птичьи голоса.
И в круг возьмут глухонемые,
непроходимые леса.
Они и слова не проронят,
не вымолвят и пары фраз.
В молчанье полном похоронят
среди холмов печальных нас.
Каким же будет удивленье
и радость наша какова,
когда раздастся в небе пенье
чуть слышное...
Едва-едва.
* *
*
На мгновенье ветер стих,
мгла на землю опустилась,
и от мертвых до живых
расстоянье сократилось.
Между нами стала грань,
как стена дождя, прозрачной.
Ясно стало — дело дрянь
в смысле копоти табачной.
Сам себе на шею я
винный камень приспособил.
Ноша тяжела моя.
Но еще мой час не пробил.
* *
*
Когда затихнет шум дождя,
в образовавшемся пространстве
пустом, как дырка от гвоздя,
всяк сущий здесь погрязнет в пьянстве.
Охотно коренится зло
там, где нашла коса на камень,
и бьет в оконное стекло
с небес померкших яркий пламень.
* *
*
Может быть, ущербная луна
дурно так влияет на отечество —
черной меланхолией больна
чуть не половина человечества.
Можно утверждать наверняка,
что подчас в душе происходящее
действует почище мышьяка
или как оружие разящее.
Может грусть-тоска испепелить,
изувечить, довести до крайности,
может, точно ярость, ослепить,
оглушить жестоко по случайности.
* *
*
Против своего обыкновения
я судьбе противиться не стал,
только задохнулся от волнения,
услыхавши в голосе металл.
Появились нотки незнакомые,
те, что прежде я не замечал.
Ветер налетевший невесомые
облака за край земли умчал.
А когда на небе нет ни облачка,
чтоб не заскучать в конце концов,
у меня всегда с собой коробочка,
полная душистых леденцов.
* *
*
Как ни длбинны расстоянья,
но еще длинней
ночи в зале ожиданья
и куда больней.
На скамье казенной лежа,
притворюсь, что сплю,
притворюсь, что крепко все же
родину люблю
и, хотя ломота в теле
не в новинку мне,
будто бы на самом деле
я здоров вполне.
* *
*
Сердца хочется побольше,
чем необходимо,
чтобы ты чуть-чуть подольше
мной была любима.
Потому, что осень вскоре
все переиначит,
между досками в заборе
скоро замаячит.
И откроются, быть может,
нам такие дали —
даже суслик лапки сложит
на груди в печали.
* *
*
Судьбу-индейку проклинать
по поводу или без повода,
и морщиться, ложась в кровать,
и корчиться, дрожа от холода.
Когда за окнами рассвет
уже клубится, точно облако,
взглянувши в зеркало, поэт
страшится собственного облика.
![]()
Екимов Борис Петрович родился в 1938 году. Постоянный автор журнала. Лауреат Государственной премии за 1998 год и премии им. Ю. Казакова за 2004 год. Живет в Волгоградской области.
Иван Атарщиков — молодой колхозный пастух, на Красные яры попал не желая того, каким-то, видно, нароком. Как всегда, лихо мчался он на своем мотоцикле от скотьего лагеря, напрямую, домой, в станицу, но не свернул возле Братякина кургана, а покатил вниз и лишь потом опамятовал, но решил не возвращаться, а проехать дорогой нижней, возле Красного яра. Крюк невеликий, а свой след топтать — плохая примета.
Красный яр — это высоченные глинистые обрывы. Между ними и речкой — дорога. По ней и мчался. И вдруг резко затормозил. Белое облако меловой дорожной пыли, догнав, накрыло мотоцикл с коляской и седока.
Рядом с дорогой земля была непривычно изрыта, взбуровлена: просторные, но неглубокие, в колено, ямы; сухие, каменистые комья, отвалы. И людские останки: тонкие ребра, берцы, оскаленные черепа, ломаные и целые; сопревшие сапоги, какие-то тряпки, лоскутья.
Прежде, еще недавно, здесь была лишь степь, рядом — речка и посеревший от времени жердевый восьмиконечный крест, памяти знак о погибших солдатах.
Теперь же… Надругание над прахом, божья страсть.
Молодой пастух с мотоцикла слез, подошел ближе к раскопу, к останкам людским.
— Сволочи… Гады… — вслух, громко проговорил он и огляделся, словно рядом были те, кого ругал.
Но вокруг лежала пустая степь, рядом — наезженная дорога. И все.
А ругать нужно было в первую голову самого себя. Это он виноват, болтун языкатый. Только он. А уж потом — другие.
Теплым, а на припеке жарким солнечным днем в начале сентября на высокий курган в далеком степном Задонье поднималась процессия невеликая. Впереди быстро шел молодой парень в легкой одежде, за ним послушно, след в след — две собаки: тоже молодой, поджарый кобель, виду овчаристого, в гладкой светло-каштановой шерсти, по кличке Тузик, и мать его, лохматая Жулька с высунутым языком.
Поднялись на курган, с которого открывался вид просторный, на многие версты: огромный распах долины, на дне которой невеликая речка, по берегам ее — зеленая урема деревьев.