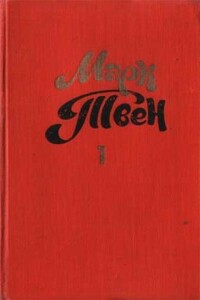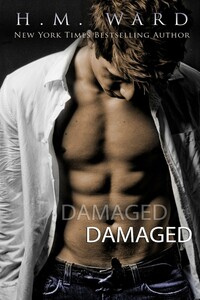* *
*
Вы заварите чай. Вы покурите.
Вы любовь наречете крамолой...
День пустой, как кладовка без рухляди,
Абсолютно свободный и полый.
Но велением плоти ли, духа ли
Нам разумного выбора мало...
И, конечно, вы снова расчухали
Ближе к вечеру зов криминала.
Вы напьетесь. Вы песню затянете.
И начнется иная раскладка —
Ночь кривая, как улица памяти
Героической жертвы порядка.
* *
*
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд...
Б. П.
Обращаюсь к другу — философу и трубадуру:
— Послушай дуру.
Хватит вращаться на публике флюгером —
Лучше уж огородным пугалом
Застыть среди воронья,
без вранья! —
А он отвечает,
превосходство свое храня:
— Глупая правдолюбица,
не распекай старика.
Смерзлись века.
Твоя метафора — врет.
Время раздуло щеки, воды набирая в рот,
Засим приветствуя позднеимперский штиль...
Правду, и флюгер, и пугало — все в утиль,
На зады, на свалку!
...В общем, кончай перепалку.
Хочешь — водку давай разольем
по стеклянным стаканам,
Помянем сами себя и канем, —
Так из последних сил
Мне отвечал зоил,
Громкий ниспровергатель, тихий истец,
А ныне — метафизически — не жилец,
Которого я так долго, так сильно любила,
Но...
Обоюдотерпкое скисло вино.
А если точней, то — в чернильнице вышли чернила,
Да и чернильница — это сегодня соц-арт.
— Здравствуй, март!
* *
*
Называл меня бабой на чайнике,
Писаревым, дурёхой.
Летней ночью сидел, как чучело,
на огороде в шубе.
Разливал самогон по шкаликам:
— Ты меня только кохай. —
Порой не владел тормозами
и сутки лежал в отрубе...
Нам выпало быть близнецами
в недружелюбном посаде,
А ты вот снялся и уехал
прочь на подводной лодке...
О, как бы я долго ерошила
твои бестолковые пряди
И как целовала бы ямочку
глубокую на подбородке!
Любовь одаряет любящих
свободой — тире — неволей.
Я вижу, как ты на облаке
пристроился с сигаретой.
...Когда разлучаются люди
после таких предысторий, —
То оставленный равен империи,
рухнувшей и отпетой.
* *
*
О, виртуоз полета без границ,
Чья ширь идет на здравое суженье,
Ты лютеран любил богослуженье,
А я люблю богослуженье птиц.
А я, шальная, раздвигаювширь
Линейку ритма и полоску смысла
(Так на плечах качала коромысло
Хмельная баба из поселка Вырь), —
Зачем? Затем, что столкновеньем эр
Моя душа контужена жестоко —
Живет, однако... И под звуки рока
Поет свое, как древний пионер.
* *
*
Н. Ш.
Ты себя довела до последней кондиции,
До дрожащих поджилок, ладоней и губ,
До античных руин — и в осанке, и в дикции,
Где одна лишь гордыня ногою ни в зуб.
Ты, как с факелом, сходишь с базарным багульником
В преисподнюю города (проще — в метро):
Изнутри — исключение, тайнопись, уникум,
А снаружи — Башмачкин, шубейка, zero.
Ничего не поделаешь: кризис истории,
Иссякание голоса, личный тупик...
Впрочем, длящийся финиш твоей траектории —
Тоже чудо и пусть безобразный, но пик!
— О, скажи мне:
ты видишь ли Замысел издали,
Сквозь чужие пиры на исходе пути, —
Мой несчастный багульник?
...От снега очистили,
Обломали — поставили в банку — цвети.
Тарковский Михаил Александрович родился в 1958 году в Москве. Окончил МГПИ им. В. И. Ленина по специальности “география и биология”, работал на Енисейской биостанции. С 1986 года охотник в селе Бахта Туруханского района Красноярского края. Рассказы и повести печатались в журналах “Новый мир”, “Юность”, “Москва”, “Наш современник” и др.
1
Лишний раз сбегать за отверткой Кольке нравится гораздо больше, чем сидеть на месте. Зато его дядька, Дядя Слава, экономит каждое движение, и дважды подняться с реки на угор для него смерти подобно. Он будет, кряхтя и матерясь, тащить на себе сети, канистры, выпадающий топор, будет останавливаться и вытирать пот, но выпрет все зараз. Если он едет зимой на “Буране” по воду, то обязательно уложится в один рейс — туда Татьяне и обратно себе, и порожняк исключается. И когда подается из избы, то обязательно с кем-нибудь — “в одну дверь”, и хотя это по-северному, зимнему еще понятно и оправдано, то выражение “пойти в одну ногу” — уже его личное изобретение.
Дядька действительно экономил на каждом движении и оставил в жизни только самое необходимое. Лет шесть назад он уволился со своей краткой и невразумительной работы учетчиком в хозяйстве, причем удачно и будто почуя разразившийся вскоре скандал — выплыла афера с солярой, заваренная начальником, и Бабушка, Дяди Славина мать, с трагическим облегчением восклицала: “Ой, отнеси Господь!” — не веря счастью и представляя, какого переплета избежал Дядька.