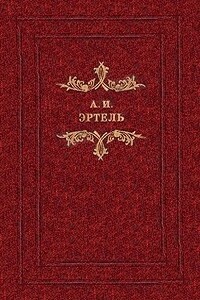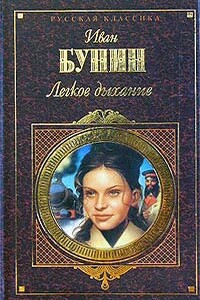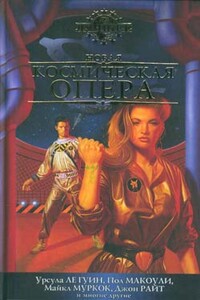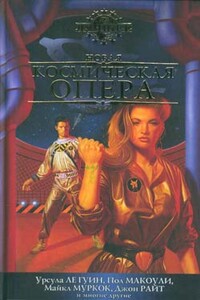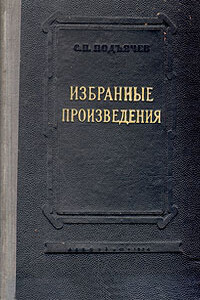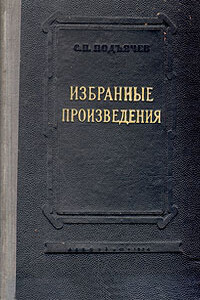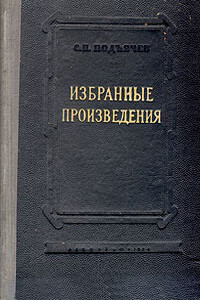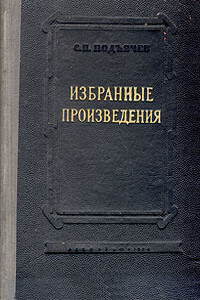Задолго еще до праздника, когда только что подуло теплом и начало помаленьку таять, жена Ивана Захарыча стала приставать к нему насчет полсапожек.
— Девке четырнадцатый год пошел, — говорила она, — скоро замуж выдавать думать надо, праздник великий на дворе, а она босиком ходит. Обуться не во что. Иди в город, купи тама ей хоть какие-нибудь подержанные. Сам посуди: праздник, все радуются, гулять пойдут на улицу, а она дома сиди.
— Ладно, — всякий раз давал ей на ее слова согласие Иван Захарыч, — куплю. Готовь лимонов, а купить дело не хитрое: пошел да купил — всего и дела. Лимонов, говорю, готовь, а за мной дело не встанет — куплю. Только вот где взять-то их? Родить ежели, — не могу: канплекция не та. Может, ты не родишь ли, а?
— А уж ты дурака-то не валяй! Не молоденькой небось! Тятя детям. Тебе, дураку, во всем смешки. Добыть надо. Достать.
— Укажи, откеда достать-то, я достану.
В таких разговорах дело дотянулось до страстной, и накануне четверга, когда в городе обыкновенно был рынок, жена пристала «без короткого» к Ивану Захарычу, чтобы он рано утром шел в город и покупал бы там дочери, тринадцатилетней девочке Феньке, полсапожки. Лимонами они к этому времени сколотились.
В четверг утром она разбудила его чем свет, «до петухов», когда только что еще чуть-чуть начало белеть в окнах.
Спавший по привычке на печке, несмотря на страшную духоту и теплынь в вросшей в землю небольшой восьмиаршинной избенке, Иван Захарыч нехотя, с ворчанием спустился оттуда и в полупотемках, осторожно шагая через спавших вповалку на полу ребятишек, прошел к столу в передний угол.
— Зажгла бы ты покеда лампочку, что ли, — сказал он, — не видать ни фига. Эк тебе не спится! Ранину эдакую подняла. Не успею, что ли?
— Когда мне спать-то? — ответила ему на это худенькая, маленького роста, востроносая жена его. — Спать-то некогда. Бегаю все в хлев, гляжу: не дал ли бог коровку? Не отелилась ли? Жду с часу на час.
— Другая неделя пошла, ты все ждешь, — сказал Иван Захарыч. — Ничего-то вы, бабы-дуры, не понимаете…
— Ты много понимаешь! Молчи уж! Нонче жду. Беспременно должна быть. Все вымя, как распорками, расперло у ней.
— Дай бог, — сказал Иван Захарыч, — не худое бы дело для праздника.
— Ежели, бог даст, телочку принесет, на племя пустим, а бычка попоим недельки две да продадим. Каки деньги охватим! — сказала жена, заранее радуясь будущему бычку или телке. — Только бы благополучно растелилась. Нонче, говорят, поветрие, что ли, такое, все с баранцами, все неблагополучно.
Иван Захарыч промолчал и начал обуваться. Пока он копался с сапогами, натягивая их на грязные портянки, пока ходил на мост за дверь умываться, — в избенке делалось светлее. Свет как-то, точно боясь чего или стыдясь того, что он осветит, робко и медленно вливался через маленькое оконце в избу.
На полу, на разостланной соломе, прикрывшись сверху какими-то дерюжками, спали ребятишки Ивана Захарыча — три мальчика и девочка, та самая Фенька, для которой он шел сегодня в город за полсапожками. Фенька эта спала с краю, ближе к двери, и, проснувшись, молча лежала, слушая, о чем говорят тятька с мамкой. Когда Иван Захарыч совсем срядился в поход, она приподнялась и робко сказала:
— Тять, ты мне на высоких каблуках, смотри, выбирай! Таки, как у Машки Звонцевой.
— Рожна тебе! «На высоких каблуках». Спи! — сказал ей на это Иван Захарыч. — «На высоких каблуках», — передразнил он ее. — Давай денег — на высоких куплю. Баловство одно. Спроси вон у матери, она росла, в твои годы, спроси, что носила?
— Ну, мало что прежде было! — отозвалась жена. — Теперь по-другому пошло. Люди не те. Да и что ж, самделе, не разумши же девке ходить.
— Пойдешь и разумши, — сказал Иван Захарыч и добавил: — От чужого добра не стыдно и заплакамши пойти. Ну, я готов. Как погода-то? Не подстыло? Эх, да и ходьба-то теперь горевая! Так вот уж только мать баловница пристала, а то бы ни в жись не пошел.
— Ладно уж, ладно, а ты иди знай! Будешь теперь собираться пять часов. Не дождешься тебя. Деньги-то взял? На хлеба. Смотри, мешочек не потеряй, назад принеси. Приходи скорей. Делать тебе там нечего — купил да назад.
— По эдакой дороге не много наскачешь, — ответил Иван Захарыч, надевая картуз и беря мешочек с хлебом. — Дожидайтесь. Приду ужо — самовар готов бы был. Лошади-то не забудь дать. Немного сена давай. Поаккуратней. Не вали зря-то! Сена-то всего ничего остается, а весна-то вон она нонче какая, не то, что летось: об эту пору пахать выехали.
— Иди, иди! Ладно уж! Диви я не знаю.
Иван Захарыч поправил на голове картуз и, сказав: «Ну, покеда всего хорошего», — вышел из избы. Жена нагнулась к окну и посмотрела, как он сошел с крыльца и, выйдя под окнами на дорогу, направился по ней к видневшемуся вдали лесу.
— Пошел, — сказала она. — Ну, дай бог в час! Фенька, не спишь?
— Нет, мамынька, не сплю. Я уж давно не сплю, слушаю! — отозвалась с полу дочь каким-то возбужденным, радостным голосом. — Не сплю.
— Рада небось? — спросила мать тоже веселым голосом.
— Страсть! А купит?
— Ну, вот! Знамо, купит. За этим и пошел. Нешто ему жалко? Он из последнего рад. Бедность вот только нас одолела. Ну, да авось поправимся. Теперь усе уж не то, что допрежь было. Забыла, как по миру-то ходила?