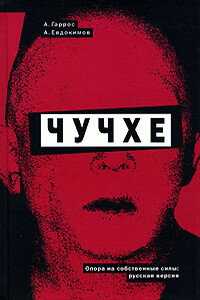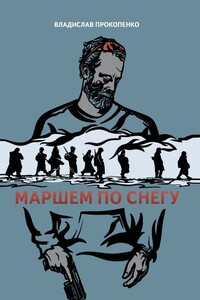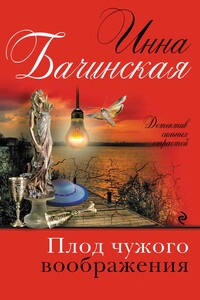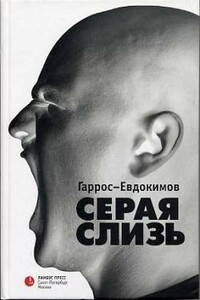Новый год
— А почему на Красной площади?
Аж вперёд подалась. Пытается — рефлекторно, наверное, — придать голосу такую профессиональную нейтральность, отсутствие эмоций с заведомым превосходством в подтексте. Ещё бы — она-то отправится отсюда в свою долбаную редакцию (где распишет, разукрасит тебя по собственному усмотрению), а ты — на нары… Но видно же, что ей самой интересно. Коза.
— Потому что он туда побежал, — я пожал плечами.
— Вы бежали за ним от метро? От «Охотного ряда»?
Сколько ей лет? Да тридцатник от силы… Профессионалка хренова. Криминальный репортёр. Смолит-то, смолит — как большая. По-мужски. По-репортерски… И табачище крепкий — перебарщиваешь, дитя, блин, с позёрством… Представляю степень её самодовольства: коза козой, а бетономордые менты с ней, видишь, цацкаются, следаки пускают за здорово живёшь в собственные кабинеты (почему он, кстати, её пустил?), отморозки-рецидивисты с «перстнями судимости» по фене на вопросы отвечают… а также маньяки, психопаты, шмаляющие почём зря в людей в новогоднюю ночь под Спасской башней…
Я невольно ухмыльнулся:
— Угу. От метро.
Но первого января с утреца она таки сюда прискакала. С мешками под мутноватыми альдегидными глазами. Такая история, конечно… Экс-клю-зив.
— Вы действительно стали стрелять, когда начали бить куранты? Почему?
Почему-почему… Ты ж, коза, всё равно не поймёшь ни хрена.
— Потому что иначе б он ушёл…
И тут на меня накатило — я вспомнил, как нёсся за ним, ломился, ни черта уже совершенно не соображая, хрипя, толкаясь… Я даже, кажется, задохнулся, как задыхался там — расхристанный, шатающийся, мокрый, громко топочущий, с вытаращенными глазами и разинутой пастью. В праздничной, поддатой, укутанной-застёгнутой, всхохатывающей, нетерпеливой толпе — в раскрасневшейся, отдувающейся паром, морозно переминающейся, постукивающей ножкой об ножку, не таясь разливающей, разбрасывающей бенгальские искры, поглядывающей на часы: кто на запястье, кто вперёд-вверх — в том направлении, куда он, сука, и бежал, резвый, виляющий, словно совершенно не уставший, чесал, ввинчивался, протискивался, отпихивал… Я уже почти потерял его из виду. Я его уже почти потерял.
Я действительно мало что понимал и воспринимал — и вроде бы даже не услышал раскатившегося в небе огромного, гулкого, звонкого, победного перелива… Просто в следующий момент в руках моих заплясала эта чёртова штуковина — а толчея сказочно-послушно и быстро стекла в стороны, сминая сама себя… Наверное, я что-то орал, наверное, орали вокруг — он обернулся: на бегу, лишь немного снизив скорость. Не оглянись он, не притормози — ведь ушёл бы, ушёл, скрылся за спинами…
Лёгких не было, сердце скакало меж диафрагмой и теменем, скакала в страшно далёких и мне не принадлежащих ладонях эта хреновина — и не думая, разумеется, наставлять недлинное своё рыльце туда, куда надо… И вдруг все запнулось: стоп-кадр. Он вполоборота, и ствол, уткнувшийся-таки в него, и палец, чёртов мой палец, не могущий, не могущий шевельнуться.
А потом ударило, врезало — коротко, сочно, веско… Плёнка пошла опять.
Я увидел, что он упал, и — не чувствуя ни ног, ни рук, ничего — двинулся вперёд, а сверху било, и било, и било с равными недолгими промежутками: на каждом ударе я стрелял, продолжая идти к нему. Последние пару раз я пальнул сверху вниз — он лежал ничком у меня под ногами и уже не подёргивался. Я выронил пистолет, стоя столбом, куранты добухали своё и замолкли — и тут же прилетел, нарастая, свист бомбы, лопнул разрыв, рассыпалась пулемётная очередь, ночь накалилась зеленоватым аквариумным свечением, которое перетекло в тёмно-красное, которое расплескали серебристые искры, которые… Свистело, ухало, трещало, менялись цвета: в какое-то мгновение мне показалось, что фигура на брусчатке тоже меняется, — и аж колени подкосились… Почти сразу я и впрямь свалился — меня сшибли, принялись топтать, но ничего больше значения не имело: я понял, что — чушь, глюк, что ни хрена он, конечно, не изменился, и не исчез, и не воскрес; я понял, что я таки достал, достал, достал его, что все наконец-то кончилось.
Старый год
Они свернули на неприметную тропинку и сразу остались одни. Перешагнули волшебную границу волшебного пространства, где не было никогда воскресных гуляющих, пьяных, машин, домов, дымов, никогда не слышался всепроникающий однотонный гул мегаполиса, где навечно оцепенел пушной, мохнатый, узорный, прозрачно-сизый в тени и колко, рассыпчато, переливчато отсверкивающий на солнце лес. Но с их-то появлением и настал конец «белому безмолвию»: Мишка с Машкой, дикарски вопя, ринулись в снежную целину, посыпалась мука с кустов, снялась с закачавшейся ветки ворона. Сухой, наскоро слепленный и растерявший, как метеорит, на полпути к цели львиную долю объёма снежок угодил Олегу в ключицу. Тайка, которой попали в лицо его «осколки», ойкнула и отстранилась, Олег преувеличенно резво увернулся от следующего, совсем вялого — Мишкиного — снаряда, пригибаясь, отбежал за ближайший ствол (шлёп! — лихо кидает Марья), быстро сварганил свой колобок и принялся отстреливаться.
— Пап, а снег — это вода?