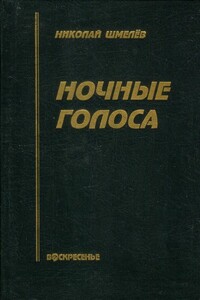«Спускаться? — остановившись на секунду перед влажной, исходящей паром дырой подземного перехода, подумал Горт. — Или пройти немного дальше, к Военторгу, и там перейти поверху?.. А, что я, в самом деле… Там теперь тоже не перейдешь — недавно и там прорыли… Теперь уже все, брат, навсегда: хочешь не хочешь, а полезай под землю, другой дороги больше нет… Перебегать же — глупо: и возраст не тот, и милиция, конечно, остановит, оправдывайся потом. Вон на той стороне маячит фигура, и на перекрестке у Грановского тоже, надо думать, стоит, да еще, наверное, не один… Ничего не поделаешь, приходится подчиняться — прогресс…»
Александр Иванович Горт терпеть не мог подземные переходы и, где только можно было, старательно их избегал. И дело было, конечно, не в двадцати ступеньках вниз и потом двадцати ступеньках вверх: дома, когда ломался лифт, он пока еще спокойно, без остановки, поднимался на свой пятый этаж, и настроение у него от этого никогда не портилось. Нет, неприятен был сам факт, что тебя, солидного, уважаемого человека, не спрашивая на то никакого твоего согласия, заставляют лезть в этот люминесцентный, заполненный толпой туннель, где люди идут, тесно прижатые друг к другу стенами, строем, одни в одном направлении, другие — в другом. Если же время было позднее, то возникало иное, но тоже, признаться достаточно неприятное ощущение: пусто, холодно, длинный кафельный коридор, никого, только стены, да низкий потолок над головой, да гулко шаркающие шаги, твои же собственные — кричи не кричи, как в подземелье, в дурном сне, все равно не отзовется никто.
Наверное, это может показаться кому-то своего рода странностью, может быть, даже чудачеством, но в последние два десятка лет для него это был действительно немаловажный вопрос, к тому же вопрос, возникавший чуть ли не каждый вечер: как бы так исхитриться, чтобы пройти от Неглинной, точнее, от Третьего Неглинного переулка до Библиотеки Ленина, ни разу не нырнув при этом под землю? Троллейбус или метро исключались — без крайней нужды он ими никогда не пользовался, а пешком эта задача постепенно, на его глазах, с тех пор как прорыли первый подземный переход в Охотном ряду, становилась все более и более трудноразрешимой, пока наконец не стала неразрешимой полностью, совсем, какие бы хитроумные маршруты он себе ни представлял. Поначалу еще можно было пройти верхом через проезд Художественного театра, улицу Огарева и дальше — через улицу Грановского или же бульварами от Трубной через Пушкинскую площадь, Никитские ворота и Арбат, но потом понастроили переходы у телеграфа, у Моссовета, у памятника Пушкину, у Дома журналистов, потом, совсем недавно, у Военторга, и теперь, какой бы дорогой он ни шел, ему приходилось как минимум дважды, а если не из дома, то нередко и трижды спускаться вниз и опять вылезать наверх.
Перемены? Конечно, перемены, и что до него, то лучше бы их и вовсе не было — не так уж длинна человеческая жизнь, можно было бы, наверное, обойтись и без них. Но что поделаешь? Отныне единственный выход для него — научиться не обращать внимания на все эти переходы, как научился он уже, сам того не сознавая, не обращать внимания на нескладный, будто отгрызанный кем-то угол у бывшего Звонарского переулка, где когда-то стоял белый двухэтажный дом и в нем, во дворе, — крохотная керосинная лавка, а теперь был пустырь, утыканный чахлыми прутиками, никак не хотевшими расти; как простил он, хотя и не сразу, снос небольшого, но на редкость изящного здания, примыкавшего к Малому театру, и вместо него — новую часть ЦУМа; как пережил он исчезновение бывшей гостиницы «Европа», разваленной чуть ли не в одну ночь, и вместе с ней — исчезновение известного всей Москве магазина «Чай»; как смирился он с новой пристройкой к гостинице «Москва», заменившей «Гранд-отель», куда он лет двадцать, не меньше, ходил стричься в парикмахерскую, и не только с этой пристройкой, но и с непонятно зачем нужным камнем посреди Манежной площади, и с нелепой башней нового «Националя», и со многим, очень многим другим… Все так. Все это так, конечно… Но что ни говори, а главное-то все-таки осталось: осталась дорога от дома до Моховой, Банк, Большой театр, Госплан, старый «Националь», остались старые здания университета и дворик перед бывшим его ректоратом, где он в студенческие годы после лекций или в ожидании экзаменов сидел и жмурился на солнце, пробивавшееся сквозь листву, и где он и теперь иногда сидит, на той же лавочке, отдыхая, если в расписании получалось «окно» — уже немолодой, уже почти что лысый доцент университета, больше двух десятков лет преподающий студентам историю средневекового Китая, отец двух дочерей, последний представитель древней, еще с екатерининских времен русско-немецкой фамилии, чудом уцелевшей до сих пор вопреки всему.
Так. Все так, конечно… Только вот чем дальше, тем холоднее, длиннее становится эта дорога. Все-таки раньше, до всех этих перемен, она такой не была…
Сложив зонт и с силой тряхнув его, чтобы сбить последние капли дождя, весь день шедшего вперемежку с мокрым снегом, он толкнул тяжелую, с толстыми стеклами дверь и вошел в вестибюль. И сейчас же привычное тепло библиотеки, комфорт, тишина, привычные запахи и приглушенные, будто сквозь вату, голоса приняли его, оттеснив куда-то дождь и темноту, и суету вечерней Москвы, быстро-быстро, не задерживаясь, разбегавшейся после работы по своим норам и закуткам. Скучающий милиционер дружелюбно, как всегда, кивнул ему, и также дружелюбно, по-домашнему улыбнулась, узнав его, старушка, проверявшая, сидя за столом под низенькой зеленой лампой, пропуска, и еще кто-то из персонала поздоровался с ним, когда он медленно, не торопясь, поднимался по длинной, устланной ковром лестнице наверх, на второй этаж. Там, на выдаче, ждала его стопка еще вчера отложенных для него книг, и там же в небольшом тихом зале, где редко бывали случайные люди, ждал его стол, и там, он знал, никто и никогда не посмеет чем-то потревожить его, чем-то помешать, да, наконец, даже просто напомнить ему, что, помимо этого зала, существует еще и иная жизнь.