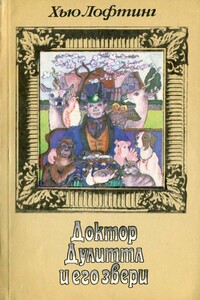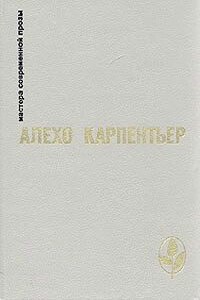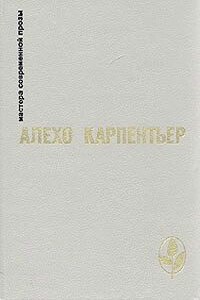он шествовал, ночи подобный.
Илиада. Песнь 1
1
Море только начинало зеленеть меж скал, которые пока окутывал сумрак, когда рожок дозорного известил о прибытии пятидесяти черных судов, направленных к нам царем Агамемноном. И те, что столько дней ждали сигнала у сложенного на гумне навоза, потащили на берег пшеницу, а там уже нами были заготовлены круглые чурбаки для подтягивания судов к крепостным стенам. Едва кили коснулись песка, пошла ругань с кормчими, пытавшимися отпихнуть нас шестами, а ведь столько раз говорилось микенцам, что нам не хватает сноровки в делах морских. Да еще и на берег высыпали дети, они путались под ногами воинов, мешали движению, лезли на борта, чтобы натаскать себе орехов из-под лавок гребцов. Под крики и ругань, под оплеухи накатывались на берег прозрачные рассветные волны, и во всеобщей суматохе почетные лица города так и не смогли произнести приветственную речь. От встречи с теми, кто прибыл забрать нас на войну, я ждал большей торжественности, большей пышности, потому сейчас, несколько разочарованный, я отошел к смоковнице, на толстую ветвь которой мне нравилось влезать, слегка сжимая ее коленями, ведь чем-то она походила на женские бока.
Пока суда вытаскивали на берег около гор, на которых уже играло солнце, сглаживалось и мое первое плохое впечатление, без сомнения, вызванное бессонной ночью ожидания и количеством вина, выпитого накануне с недавно прибывшими из глубины страны парнями, они на следующее утро вместе с нами должны были взойти на суда. Наблюдая вереницы грузчиков с кувшинами, бурдюками, корзинами, я чувствовал, как во мне растет — вместе с распаленной гордостью — осознание превосходства воителя. То оливковое масло, то смоляное вино, а прежде всего, та пшеница, из которой в золе по ночам будут выпекаться лепешки, пока мы будем спать, укрывшись за промокшими бортами, в укромном месте какой-нибудь безызвестной бухты[1], ожидая Великого Сбора Всех Кораблей, вот те самые зерна, провеянные с помощью и моей лопаты тоже, сейчас грузились для меня, а мне и не нужно было напрягать свои мышцы, свои руки — уже свыкшиеся с ясеневым копьем, — помогая тем, кому только и ведом запах земли — беднякам, что смотрели на нее сквозь пот скотины, хотя и сами жили, согнувшись в три погибели, привыкшие полоть, дергать и вскапывать, как и пасшийся на ней скот. Им никогда не видеть тех облаков, что всегда в этот час накрывают тенью зеленые поля далеких островов, откуда везут пряный сильфий. Им никогда не увидеть троянский город с широкими улицами, который мы ныне собирались взять приступом и разрушить. Долго нам вещали посланцы царя Микен о наглости Приама, о бедах, которые угрожают нашему народу из-за высокомерия приамовых подданных, насмехающихся над нашими мужественными нравами; дрожа от гнева, мы узнали о вызове, брошенном илионцами нам, длинноволосым ахейцам, чья храбрость не сравнима с храбростью никакого другого народа. И крики ярости, сжатые кулаки, клятвы с взметнувшимися вверх руками, брошенные в стену щиты — все это, когда мы узнали о похищении Елены Спартанской. Нам плели, пока из бурдюков вино рекой лилось в шлемы, о ее неземной красоте, стройности, бесподобной походке и, в особенности, об ужасах гнусного плена. И в тот самый день, когда негодование бурлило в народе, нам объявили об отправке пятидесяти судов. Огонь зажегся тогда в кузнях бронзовых дел мастеров, а старухи понесли из леса дрова. И сейчас, по прошествии дней, я смотрел на корабли, выстроившиеся внизу подо мной в линию, с мощными килями, с мачтами, покоящимися между бортами, словно член меж бедер мужских, и я чувствовал себя в какой-то мере хозяином этих деревянных штуковин, и чудесный их подъем — свойства которого были неведомы местным, — превращал суда в несущихся скакунов, способных перенести нас по волнам туда, где развернется самая грандиозное битва всех времен и народов. И мне, сыну седельника, внуку холостильщика быков, посчастливится отправиться туда, где свершались подвиги, о которых мы узнавали из рассказов моряков; мне выпадет честь созерцать стены Трои, подчиняться прославленным полководцам и положить все силы на освобождение Елены Спартанской — долг мужчины, высшая победа, которая принесет нам вечное процветание, счастье и право гордиться собой. Я глубоко вдохнул прохладу, которую нес со склона через оливковую рощу легкий бриз, и подумал, как прекрасно погибнуть в праведной борьбе за правое дело. Мысль быть пронзенным вражеским копьем заставила меня, однако, подумать о моей матери, о ее скорби и скорби того — и, возможно, куда более сильной, — кто, не проронив ни единой слезинки, получит весть о моей смерти — главы нашего семейства. Неспешно пастушьей тропой я спустился в город. Три козлика резвились в аромате тимьяна. На берегу продолжали грузить пшеницу.
2
Басовыми звуками виуэлы[2] и щелканьем глиняных кастаньет отмечали повсюду скорое отбытие кораблей. Моряки с «Ла-Гальярды» танцевали сарамбеке[3] с вольноотпущенными негритянками, перемежая танец куплетами — как в той песенке «Девчонка из Ретоньо», при исполнении которой руки хлопали по тем предметам, названия которых опускались. Шла погрузка масла, вина, пшеницы, и индейские слуги Веедора