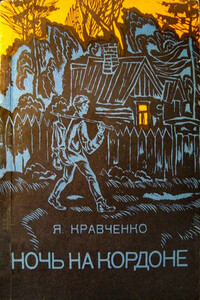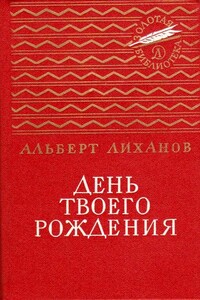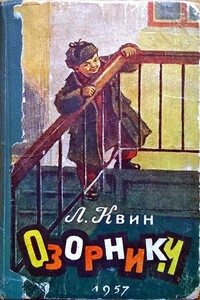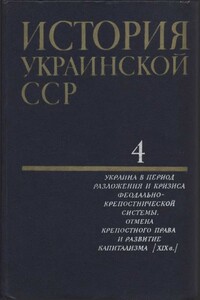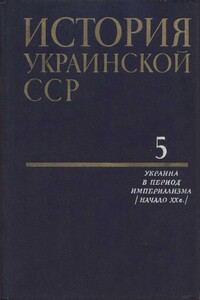1. ВРАГ ЗАНИМАЕТ НАШ ГОРОД
В июле 1942 года немцы подходили к нашему городу. Мне тогда было двенадцать лет. Моя мать и младшая сестрёнка заблаговременно выехали в Куйбышев. Я остался с отцом в городе — он в то время работал в лесничестве.
Меня удивляло, что отец медлил с отъездом. Город уже был наполовину пуст, нас ежедневно бомбили. По улицам днём и ночью двигались отступающие войска, гнали ревущий голодный скот, с котомками за плечами уходили жители. Все громче и громче доносилась канонада приближающегося фронта.
Отец спокойно смотрел на эту картину и, казалось, не собирался уезжать. На мой вопрос — когда же мы будем эвакуироваться? — невозмутимо отвечал: «Никогда. Мы останемся». Я не мог понять, как это мы останемся, если в город войдут немцы, но отец ничего не объяснял: «Много будешь знать — скоро состаришься», — говорил он.
Через несколько дней мы всё же покинули город. В одну яз бомбежек отца ранило осколком в живот. Соседи уложили его на повозку, взятую в лесничестве, побросали рядом кое-какие пожитки и в сопровождении ещё двух подвод с такими же беженцами спешно выехали.
Хорошо помню этот вечер. В наступивших сумерках двигаемся мы на восток по неубранным полям. Чувствуется смешанный запах поспевающего хлеба, полыни и пороховой гари. Сзади розовой полоской догорает заря. На горизонте, на фоне зари, к небу поднимаются клубы черного дыма — это горит наш город Раздольск.
Я трясусь в телеге, озираясь по сторонам, вглядываюсь в неясные очертания холмов, оврагов, придорожных кустов. Колеса жалобно скрипят, и на душе у меня муторно и тревожно.
Ночь застала нас, когда мы проехали всего километров пятнадцать. В маленьком овражке остановились ночевать. Выпрягли лошадей, поужинали. Меня покормили чужие люди (у нас ничего съестного не было). Отец к еде не притронулся. Тихо и молча лежал он под терновым кустом. Иногда, видимо превозмогая боль, глухо стонал. Когда я прилег возле него, он погладил меня по голове холодной рукой и сказал:
— Серёжа, я хочу тебе кое-что сказать… Подвинься ближе. На нашей повозке лежит маленький чемодан. В нём есть толстая книга — «Жизнь животных» Брема, второй том. Про птиц, знаешь? Так вот… Если расслоить обложку книги, то можно найти в ней листок бумаги… На нем написаны фамилии… Их пятнадцать. Если со мной что-нибудь случится — сохрани эту книгу и список. Береги их, как свою жизнь.
— А что может с тобой случиться? — испуганно спросил я.
— Ну, всякое бывает. Война есть война… Ты только не бойся, ты уже большой.
Я совершенно выпустил из виду, что отец говорил о книге и вклеенном в переплет листке, я думал только о том, что отцу, должно быть, очень плохо и что он может умереть. Мне стало страшно при мысли, что я могу остаться один. Я обхватил отца руками, прижался головой к его плечу и заплакал.
Так я и заснул рядом с ним.
Проснулся на рассвете. Пальтишко, которым я был укрыт, соскочило, и я озяб от утренней сырости. Я приподнялся на локте и посмотрел вокруг. Солнце ещё не всходило, на траве блестела роса. Люди спали, и только одна женщина, стоя на коленях, раздувала костер. Из-под закопченного чайника густой синей струйкой поднимался дымок. Потом женщина пошла за дровами. Высунувшись из оврага, она вдруг отпрянула назад и закричала:
— Немцы!
В один миг я выскочил на пригорок. Глянул на поле, и ноги у меня подкосились.
В полукилометре, по неубранному хлебу, высовываясь из него по пояс, с автоматами в руках двигались немцы. Они шли широкой цепью молча и бесшумно. Каски, лица и фигуры их в неярком утреннем освещении казались зловеще чёрными.
От страха у меня перехватало дыхание, я кубарем скатился вниз и стал тормошить отца. Люди заметались спросонок, заголосили женщины, заплакали дети. Поднялась суматоха: кто тащил узлы, кто наскоро одевался. Лесхозный конюх бил по морде упиравшуюся лошадь, пытаясь впрячь её в повозку. Никто не давал себе отчёта в том, что бежать уже некуда.
Поздно…
На краю оврага показался немецкий офицер с хлыстом в правой руке, рядом выросли фигуры солдат в зелёных мундирах. Мгновение они рассматривали нас, потом спустились, хватали людей и выводили из оврага.
— Бистро, бистро? — говорил офицер и показывал рукой в сторону города: — Вэк!
Меня оторвали от отца и тоже заставили подняться наверх.
Там я оглянулся. Отец, бледный как стена, держась за ветку терновника и став на одно колено, вытаскивал из кармана ослабевшей рукой пистолет. Офицер подошёл к нему, вырвал у него наган и ударил по лицу. Два солдата подхватили отца под руки и поволокли к круче. Там они направили ему автоматы в грудь и дали очередь. Я закричал, закрыл лицо руками и упал на траву…
* * *
Не знаю, сколько пролежал я на земле, — должно быть, долго, потому что, когда поднялся, вокруг не было ни беженцев, ни немцев.
Может, покажется странным, но я не подошёл к телу отца. Я боялся, я не мог взглянуть в его мёртвое лицо, в его глаза, неподвижно устремлённые в голубое утреннее небо.
До сих пор мне мучительно больно, что тогда я не нашёл в себе мужества похоронить отца, и мне неизвестно, сделал ли это кто-нибудь за меня или его съели волки и хищные птицы.