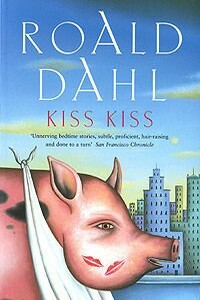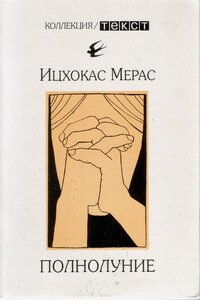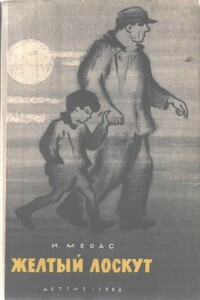— Нет, — ответила она, —
я сама была виновата.
Мощенная булыжником базарная площадь была загажена ошметками сена, соломы, клочьями бумаги и конскими яблоками.
Она сидела на большом камне, обхватив руками узелок, — вдыхала запах сена и навоза. Еще не просохшими глазами озиралась она вокруг, снова, уже в который раз, видела перед собой просторную базарную площадь, магазин с вывеской «Мануфактура» и возвышавшуюся поодаль красную башню костела.
В костеле она была.
На площади, на камне, сидит уже давно.
Может, зайти в магазин?
Да, непременно надо зайти в магазин, и поскорей, а то вот-вот закроется, и тогда уже некуда будет идти, совсем некуда.
Она торопливо поправила толстую пшеничную косу, тяжело лежащую на голове, заколола ее покрепче, застегнула ремешки коричневых туфель.
Надо спешить, а то закроют магазин.
Базарный день кончился.
Последняя подвода весело катит с площади. Обок поспевает, размахивая концами вожжей, неказистый взъерошенный мужичонка.
— Но-о-о! Но-о-о, гнедой!
Почему всклокоченный мужичок не садится на телегу? Почему трусит сбоку?
Может, ему ловчее бежать так, опершись на грядку телеги, может, легче. Он, глядишь, поросенка продал, дюжину яиц, а то, чего доброго, и просто в долг напился.
— Но-о-о! Но-о-о, гнедой!
Ему, как видно, легко и сноровисто бежать рядом с подводой, навалясь на грядку.
— Но-о-о!
Надо спешить, а то закроют магазин.
Она ладонью стерла пыль с туфель. Они немного потускнели сперва, а потом вдруг заблестели. Даром, что ли, она всю дорогу, девять километров, топала босиком? По стежкам — роса, на дороге — пыль. Зато на окраине городка она обмыла ноги, обула новые туфли. И не скажешь, что уже два раза надеваны.
Первый раз обулась в них, когда ходила к усадьбе Бернотасов, Антанаса искать ходила. Самый первый раз. Отец не вытерпел — давно уже собирался, — привез из города коричневые туфли, бережно положил на лавку и тихо, не глядя на дочь, сказал:
— Бери, бери. Не босиком же под венец идти.
Вот и обула в первой, как пошла искать Антанаса.
Тихо, неторопко подошла лугами к воротам усадьбы, обула коричневые туфли, а потом прижалась к глиняному кувшину, что сушился на заборе, уткнулась лбом в его прохладный бок и зажмурилась.
Она еще ни разу не была у Бернотасов. Не осмелилась и тут отворить калитку.
Загоготал гусак, учуяв чужого, а за ним и все гусиное полчище. Хрипло, взахлеб залаяла собака.
Была суббота, банный день. От избы доносился шум, гомон. Видно, там уплетали картофельную бабку, запивая холодным молоком, сметаной, а может, чем-нибудь и покрепче.
Она тихо ждала, опустив голову и зажмурив глаза, так же тихо, как шла сюда, к этой усадьбе, по полям и лугам.
Истошно вопили гуси, все злей и злей надсаживался пес — должен ведь выйти хоть кто-нибудь! Хорошо бы он сам вышел. Боже милостивый, пусть уж он сам, Антанас… Святая Дева Мария, матерь милосердная… Только бы он, а не кто другой.
— Эй, там? Кто собак дразнит?
Он! Сам вышел, Антанас.
— Я…
Подняла голову, и он увидел.
Оба стояли молча.
Стояли долго.
Антанас дернул плечом, и она подумала, что сейчас он повернется, уйдет в избу и никогда больше не выйдет оттуда, сколько ни стой здесь потом, сколько ни дразни собак, птицу.
— Антанас!
Он подошел. Постоял у забора, затем отпер калитку, вышел.
Высокий, плечистый, свежий после бани, грудь нараспашку, а когда прислонился к забору, тот аж заскрипел.
— Ну?
Он глядел на нее сверху вниз, а она, подняв голову, не знала, что и сказать.
— Ладная ты баба, чтоб тебя черти…
Ухватил ее за руку, потянул к себе.
— Все хорошеешь, а?
Она не противилась.
— Может, пойдем поваляемся еще разок? — Антанас ухмыльнулся.
Наконец она решилась. Выскользнула из его рук, глянула вниз, чтобы и он глянул — увидел ее новые коричневые туфли с круглыми пуговками.
— Антанас, женись… Женись на мне, Антанас.
— Ну да! — отшатнулся он, и снова скрипнул забор.
— Ребенок ведь у нас, без венца, без ничего.
Он не ответил. Только, немного погодя, вымолвил:
— Зря пришла.
— Ребенок ведь у нас, ты его и не видал ни разу.
Он еще шире распахнул ворот рубахи.
— А почем я знаю? Может, не мой. Как со мной легла, так и с другим могла. Почему Юозасом окрестила, ежели отец Антанас?
Он хмыкнул. Теперь знал, что ответить.
Ей вспомнилась опушка леса, вспомнились стога сена и несжатая рожь, щетинистые луга и пахучие клеверища. Три года, целых три года. Вспомнилась клеть, куда он заявлялся пьяный, но смелый, как хозяин, и тискал, мял ее по-всякому, а она всегда молчала. Всегда была покорной.