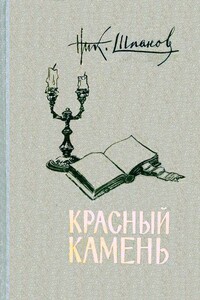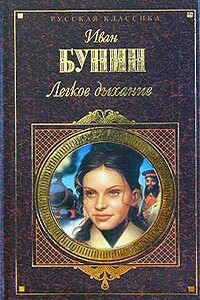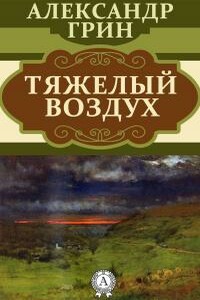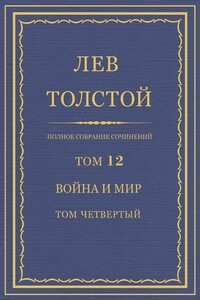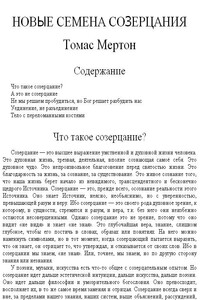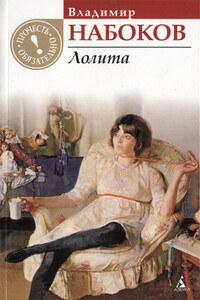Владимир Набоков
Нежить
Я задумчиво пером обводил круглую, дрожащую тень чернильницы. В дальней комнате пробили часы, а мне, мечтателю, померещилось, что кто-то стучится в дверь,-- сперва тихохонько, потом все громче; стукнул двенадцать раз подряд и выжидательно замер. -- Да, я здесь, войдите,..
Ручка дверная застенчиво скрипнула, склонилось пламя слезящейся свечи, и он бочком вынырнул из прямоугольника мрака -- согнутый, серый, запорошенный пыльцою ночи морозной и звездистой... Знал я лицо его -- ах, давно знал!
Правый глаз был еще в тени, левый пугливо глядел иа меня, продолговатый, дымчато-зеленый; и зрачок рдел, как точка ржавчины... А этот мшисто-серый клок на виске, да бледно-серебристая, едва приметная бровь,-- а смешная морщинка у безусого рта,-- как это все дразнило, бередило смутно память мою! Я встал -- он шагнул вперед.
Худое пальтишко застегнуто было как-то не так -по-женски; в руке он держал шапку -- нет, темный, неладный узелок,-- шапки-то не было вовсе...
- Да, конечно, я знал его -- даже, пожалуй, любил,-только вот никак придумать не мог, где и когда мы встречались, а, верно, встречались мы часто, иначе я не запомнил бы так твердо вон этих бруснично-красных губ, заостренных ушей, кадыка забавного...
С приветливым бормотаньем я пожал его легкую, холодную руку, тронул спинку дряхлого кресла. Он сел, как ворона на пень, и заговорил торопливо:
-- Так жутко на улицах. Я и зашел. Зашел проведать тебя. Узнаешь? Мы ведь с тобой, бывало, что ни день резвились вместе, аукались... Там -- на родине... Неужто забыл?
Голос его словно ослепил меня, в глазах запестрело, голова закружилась; я вспомнил счастье, гулкое, безмерное, невозвратное счастье...
Нет, не может быть! Я -- один... Это все -- лишь бред прихотливый! Но рядом со мной и вправду кто-то сидел -костлявый, нелепый, в ушастых немецких сапожках, и голос его звенел, шелестел, золотой, сочно-зеленый, знакомый, а слова были все такие простые, людские...
-- Ну вот -- вспомнил... Да, я -- прежний Леший, задорная нежить... А вот и мне пришлось бежать...
Он вздохнул глубоко, и почудилось мне вновь -- тучи шатучие, высокие волны листвы, блестки бересты что брызги пены, да вечный, сладостный гул... Он нагнулся ко мне, мягко заглянул в глаза.
-- Помнишь лес наш, ель черную, березу белую? Вырубили... Жаль было мне нестерпимо; вижу, березки хрустят, валятся, а чем помогу? В болото загнали меня, плакал я, выл, выпью бухал -- да скоком-скоком в ближний бор.
Тосковал я там; все отхлипать не мог... Только стал привыкать -- глядь, бора и нет -- одно сизое гарево. Опять пришлось побродяжить. Подыскал я себе лесок -- хороший лесок был, частый, темный, свежий,-- а все как-то не то... Бывало, от зари до зари играл я, свистал неистово, бил в ладоши, прохожих пугал... Сам помнишь: заплутался ты однажды в глуши моей -- ты и белое платьице,-- а я тропинки в узел связывал, стволы кружил, мигал сквозь листву -- всю ночь проморочил... Но я так только, шутки ради, даром что чернили меня... А тут я присмирел; невеселое было новоселье... Днем и ночью вокруг все трещало что-то. Сперва я думал -- свой брат, леший там тешится; окликнул, прислушался. Трещит себе, громыхает -- нет, не по-нашему выходит. Раз, под вечер, выскочил я на прогалину -вижу, лежат люди -- кто на спине, кто на брюхе. Ну, думаю, поразбужу их, расшевелю! Стал я ветвями встряхивать, шишками лукаться, шуршать, гукать... Битый час провозился-- все ни к чему. А как ближе взглянул, так и обмер. У того голова на одной красной ниточке висит, у того вместо живота -- ворох толстых червей... Не вытерпел я. Завыл, подпрыгнул и давай бежать...
Долго я скитался по лесам разным, а все житья нет. То тишь, пустыня, скука смертная, то жуть такая, что и лучше ас вспоминать! Наконец решился: в мужичка перекинулся, в бродягу с котомкой, да и ушел совсем: прощай, Русь! Ну а там, мне братец мой. Водяной пособил. Тоже, бедняга, спасался. Все дивился он: времена, говорит, какие настали -- просто беда. И то сказать: он хоть и встарь баловался, людей там заманивал (уж очень был гостеприимен), да зато как лелеял, как ласкал их у себя на золотом дне, какими песнями чаровал! А нынче, говорит, все только мертвецы плывут, видимо-невидимо, а влага речная что руда, густая, теплая, липкая; дышать нечем... Он меня и взял с собой. Сам-то в дальнем море мыкается, а меня на туманный бережок по пути высадил -- иди, брат, найди себе кустик. Ничего я не нашел и попал сюда в этот чужой, страшный, каменный город... Вот и стал я человеком, воротнички, сапожки, все как следует -- даже научился говорить по-ихнему...
Он приумолк. Глаза его блестели, как мокрые листья, руки скрещены были, и в зыбком отблеске заплывшей свечи странно-странно мерцали бледные волосы, налево зачесанные.
-- Я знаю, ты тоже тоскуешь,-- снова зазвенел яркий голос,-- но твоя тоска, по сравнению с моею буйной, ветровою тоской,-- лишь ровное дыханье спящего. И подумай только: никого из племени нашего на Руси не осталось. Одни туманом взвились, другие разбрелись по миру. Родные реки печальны, ничья резвая рука не расплескивает лунных заблестков, сиротеют, молчат случайно не скошенные колокольчики -- прежние голубые гусли легкого Полевого, соперника моего. Косматый, ласковый Постен покинул, плача, твой опозоренный, оплеванный дом, и зачахли рощи, умилительно-светлые, волшебно-мрачные рощи...