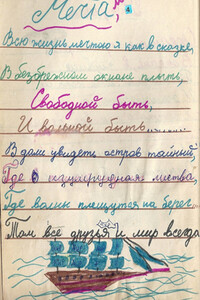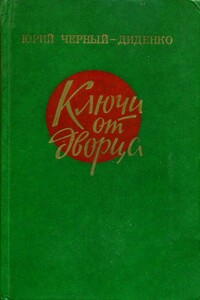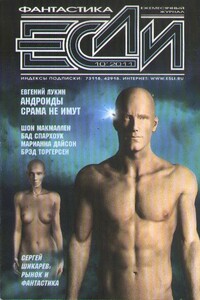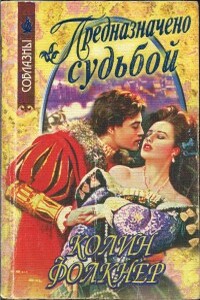рошел год, даже год и двадцать дней, как я уехал из дому. Вроде и не много, но если судить по тому, сколько событий произошло за это время, в скольких местах пришлось побывать и сколько повидать, то — очень много. Во всяком случае мне кажется, что это больше, чем вся моя жизнь до армии. Учебный пункт, граница, школа младших командиров, а с июля — фронт. Первый бой под Гдовом, а потом горькие дороги отступления. Но это только так говорится — «дороги отступления». На самом деле отступают не по дорогам. По болотам, полям и лесам. Днем и ночью, под дождем или палящим солнцем, часто без пищи и воды. Переходы, бои, форсированные марши и снова бои. Обстрелы, отходы, окружения, атаки, выходы из окружения и снова отходы. Все время потери, потери… И так много дней и много ночей…
Потом был сборный пункт на Фонтанке, в самом Ленинграде, маршевая рота, и вот я здесь, в Московской Славянке. В деревне жителей никого не осталось, все ушли. В двадцатых числах сентября, когда мы сюда пришли, жители еще были. Ползали ночью на передний край за картошкой и капустой. Их гоняли свои, обстреливали немцы, а они лезли под огонь. Некоторые там и оставались лежать на картофельном поле. Есть захочешь — полезешь. А сейчас в деревне жителей нет, одни военные. Передний край проходит по окраине Колпина, ручью, вернее речке Славянке, около парка в Пушкине и дальше идет на Пулковские высоты. Здесь, в деревне, штаб нашего 402-го стрелкового полка и тыловые подразделения. Штаб полка — в большой землянке, в овраге. Мы, полковые разведчики, — рядом, в двух небольших землянках.
Отсюда виден город Пушкин. Там немцы. В городе все время что-то горит, дымится. В тот день, когда мы сюда пришли с маршевой ротой, в городе что-то сильно горело. Мы прибыли поздно вечером. Остановились у разбитого здания школы, около Московского шоссе. Под навесом дымилась кухня. Темень кругом хоть глаз выколи. На передке вспыхивают ракеты, а дальше в гору, среди деревьев, огромное зарево. Получив по пайке хлеба и по половнику каши, мы расположились тут же у разрушенной стены и принялись за ужин. Проголодались, да и устали: от Фонтанки до Московской Славянки километров за тридцать. Поэтому никто уже не обращал внимания ни на мелкий осенний дождь, ни на пронизывающий ветер. Нужно было утолить голод и найти укромное место, чтобы прикорнуть часик-другой. Все остальное не очень волновало.
— Ребята, по всему видать — горит дворец, — сказал кто-то.
— Похоже, — ответил другой.
— С прибытием, братцы, — послышался голос из темноты. — Чувствую, земляки. Из Питера, значит? — К нам подошел и присел на кучу кирпича командир. Знаков отличия было не видно, но покрой шинели и портупея говорили о том, что подошедший не рядовой. Земляки — в роте было несколько человек ленинградцев — быстро нашли общий язык, и из их разговора я тогда узнал, где нахожусь и что там полыхает в темноте. Раньше я не был ни в Ленинграде, ни в его пригородах. Кое-что, конечно, знал, но, как говорится, по учебникам. Надо же было так случиться, чтобы в такое время побывать в этих местах, где на каждом шагу сама история.
— Да, братцы, горит самый что ни на есть Екатерининский дворец, краса и гордость Пушкина, да не только Пушкина. Горит с самого утра. Взорвали гады. Ну ничего, отольются им наши слезы, — с тяжелым вздохом сказал командир и, попрощавшись с нами, ушел в сторону, переднего края. Все долго молчали.