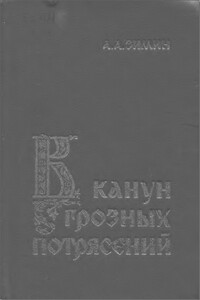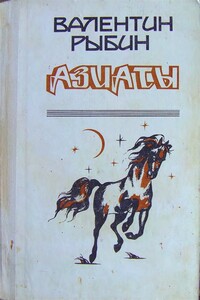Иногда Вестнику Андрасте хотелось вылакать в одиночку как можно больше местного пойла, так, чтобы после путаться в ногах, а поутру проснуться на конюшне от воплей Деннета или дружеского пинка Блэкволла. Когда пьянеешь, мысли лёгкие, звенящие, а уж как шустро вылетают из головы!
Конечно, Жозефина бы отчитала его, как дитя: мол, не пристало благородному господину нажираться в сопли с собственной солдатнёй. Вирен никогда с нотациями не спорил. Знатная девица, увешанная драгоценностями с его кулак, уж точно не поймёт: иногда лучше напиться и натворить огромную кучу мелкой дури, чем в трезвом состоянии выдать одну большую.
Главное — чтобы язык отказал раньше разума, потому что иначе можно вляпаться и по-крупному.
К чему такие ухищрения, твердит лощёная аристократка, похожая на породистую лошадь. Тебе не обязательно пить, чтобы забыться: ты можешь попросить Коула помочь.
Словно паренёк с растрёпанными светлыми волосами — Вирен знает, насколько пряди жёсткие, насколько колют кожу — не живое существо. Всего лишь средство, которым можно воспользоваться, вроде пиявок или целебной магии.
В общем-то, говорит Жозефина, его не надо даже упрашивать. Достаточно подойти к нему — и он почувствует в душе неполадку, исправит словом или делом; в конце концов — просто сотрёт источник боли из памяти.
Она не поймёт, почему Инквизитор боится даже случайного столкновения с Коулом, говорит с ним лишь в толпе; Сера хихикает в кулак, утверждая, будто бравый Вестник Андрасте готов наложить в штаны при виде «демона». За такие шуточки он как-то раз подпалил ей зад — не сильно, но ей хватило, чтобы впредь издеваться исключительно с безопасного расстояния.
«Не называй его демоном», — сказал тогда Вирен. «Не смей, или я заставлю тебя проткнуть себе глотку собственной стрелой, ты же знаешь, маги крови на это способны», — это он, переводя дыхание, несколько раз повторил про себя.
В конце концов, Сера просто трясётся за собственную шкуру. Будь Инквизитор немного миролюбивее, он бы даже смог её понять.
Забавный парадокс, когда хочешь видеть кого-то — и боишься, что ненароком он заглянет тебе в душу, заглянет слишком глубоко. И увидит то, что может изменить его. Слишком сильно, даже непоправимо навредить. Солас, конечно, тот ещё зануда, но насчёт духов Вирен предпочитал с ним не спорить.
Дух становится демоном, когда получает приказ, противоречащий его природе. Так, или как-то вроде. Что случится с духом милосердия, если он поймёт, что причинил боль? Ответ очевиден, но вслух лучше не произносить. От одной мысли сердце сводит — такое себе напоминание, что оно пока на месте.
Когда Коул рядом, вечно приходится думать, как не дать ему приблизиться — и не причинить боль, оттолкнув.
— Это ты? Слушай, вроде в лазарете снова какие-то проблемы… — жалкие, жалкие слова, тонкая ширма, сквозь которую невозможно не заглянуть. Без единого лишнего слова он приближается, — сердце пропускает несколько ударов, так, что кружится голова — бережно берёт, сжимает обеими руками ладонь Инквизитора. То ли шёпот, то ли воспоминание о часто звучащем:
— Я могу тебе помочь.
Как никогда, нужно решительное «нет», но вместо этого Вирен прикрывает глаза: слышал когда-то глупую байку, будто бы демону или духу, чтобы разглядеть сущность человека, нужно видеть его зрачки. Не помогает, конечно же. Загрубевшие, тёплые, слишком настоящие пальцы гладят: лёгкая ласка, она же — изощрённая пытка.
Он — дух. Нельзя.
Конечно, в Круге побывать за всю жизнь Инквизитору так и не довелось, но отчего-то он легко верил: ни в одном Круге не научат, что у духов может быть дыхание, отголоски которого ощущаются сейчас на щеке. Там не расскажут, что духи могут быть настолько живыми.
Прозрачные глаза, дрожащие светлые ресницы — прямо напротив; почти не ощущается сухой, быстрый поцелуй — только слегка покалывает губы. «Не думай об этом, он просто хочет тебе помочь», — повторяет Вирен, но злость и горечь душат лишь сильнее, когда он высвобождает руку, и, борясь с желанием ещё раз погладить спутанные волосы, настойчиво отстраняет Коула. Тяжело дышать, тяжело думать — но он, стискивая зубы, шепчет:
— Не надо.
— Тебе это нужно, — растерянно начинает паренёк, и прежде, чем он снова начнёт выворачивать чужую душу наизнанку, Инквизитор повторяет:
— Не надо.
— Горит, давит; всё, чего касаюсь, рушится, не хочу изменить, не хочу сделать хуже… Может ли он вообще чего-то хотеть?
Коул недоумённо замолкает, будто только сейчас осознаёт, что всё сказанное относится к нему. Он ждёт чего-то; объяснений? Или хотя бы того, что Вирен всё-таки произнесёт столь волнующий его вопрос вслух? А может, ему просто тяжело видеть, как множится боль, словно вместо поцелуя — удар кинжалом под рёбра. Инквизитор через силу втягивает воздух, грудную клетку раздирает тупой, давящей болью. Он знает, что это не поможет — и по привычке отводит глаза, шепча то, что обыкновенно сам дух произносил в качестве утешения:
— Это не твоя вина, Коул. Не твоя вина.