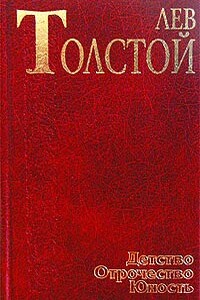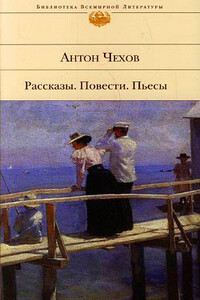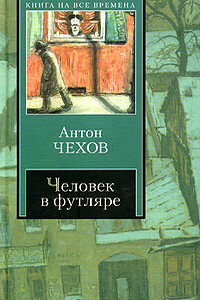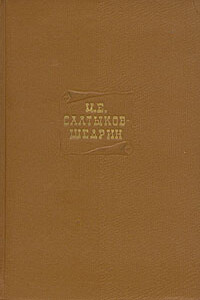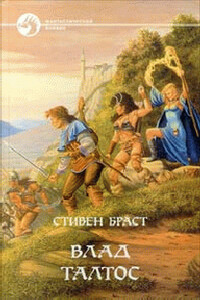«Опять не приехал! Когда же, когда же, наконец?! Ну, может быть, Бог даст, завтра приедет!..» — рассуждала сама с собой просвирня села Терёшкина, Ирина Егоровна, возвращаясь домой из-за околицы, куда она уже несколько дней подряд выходила утром и вечером встречать сына-студента.
Вася уведомил мать, что в середине июня приедет к ней повидаться после годовой разлуки: прошлые каникулы он провёл не у неё, а на даче одного из близких товарищей по университету.
Вася перешёл на четвёртый курс естественного факультета; теперь ему оставался один только год до окончания, а ей, его матери, один только год нетерпеливого ожидания того момента, когда она уже никогда более не расстанется со своим единственным сыном.
Ирина Егоровна, нестарая годами, — ей было сорок восемь лет, — но измученная заботой и нуждой, благодаря раннему вдовству, и казавшаяся гораздо старше своих лет, в последние дни, после получения письма от сына, как будто, сразу помолодела. Она с гордостью рассказывала всем о своём Васеньке, а старому батюшке о. Герасиму и дьякону Афродитову давала читать вслух самое письмо, с благоговением прислушиваясь к каждому написанному сыном слову и в некоторых местах вытирая кончиком платка тихие, радостные слёзы.
Когда Ирина Егоровна дошла до сельской площади, где вокруг церкви были расположены дома причта, а в том числе и её домик, небольшой, приветливый, с крылечком и тюлевыми занавесками на окнах, с крыльца батюшкиного дома раздался певучий голос попадьи, пожилой, шарообразной женщины, сидевшей и как бы расплывшейся на верхней приступке.
— Ну, что, матушка-просвирня, опять не приехал сынок-то?
— Нет и нет! Ума не приложу, что такое?! Оборони Господи, уж не случилось ли чего на дороге?! — ответила Ирина Егоровна, кланяясь и подходя к крыльцу, где, как она увидела, находился и сам о. Герасим с дьяконом.
— Уж которую ночь, вот, глаз не смыкаю! — со вздохом добавила она, присаживаясь к компании. — Всё слушаю, не зазвенит ли вдали колокольчик? Голова даже стала болеть…
— А этому делу, матушка-просвирня, помочь можно! — тотчас же вызвался о. Герасим, весёлый, бодрый старик с добрым, лоснящимся лицом, обрамлённым жиденькой, седоватой растительностью.
Он был ярым приверженцем гомеопатии и лечил своими крупинками от всяких недугов не только людей, но даже матушкиных кур и индюшек, которых, за неимением детей, та страстно любила.
— Вот я вам дам парочку крупиц… — продолжал батюшка, вынимая из кармана летнего парусинового полукафтанья бесчисленное количество пакетиков, завёрнутых в бумагу, с заветными целебными крупинками, которые он на всякий случай носил при себе.
— Вы, как спать-то ложиться станете, — предписывал он убеждённым, докторским тоном, — так внутрь и примите одну крупицу… Через пять минут заснёте, коли ежели с верой примете!
— О, ну, тебя с твоей гнилопатией-то! — сердито перебила попадья мужа. — Залечил ведь у меня курчонка! Здоровый был, весёлый такой, а он: «болен», да «болен», стал его крупицами своими пичкать, ну, курчонок-то через два дня — и ножки кверху!.. Ни от чего, как от этого самого лекарства сдох!.. Кто его знает, чего у него в крупицах-то этих?
— Ну, ну, ты, оставь пожалуйста! — возразил о. Герасим, пророчески подняв кверху указательный палец. — Что в писании-то сказано? Если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: сдвинься и ввержися в море, то будет по слову вашему. Так ли, о. дьякон?
Дьякон Афродитов, огромный и какой-то весь несуразный человек средних лет с совершенно голым черепом, обрамлённым, как бы бахромой, по краям жиденькими, курчавыми волосами и с густой, окладистой бородой, только что мотнул в знак согласия головой, намереваясь что-то сказать, как матушка-попадья накинулась на него:
— А ты уж, о. дьякон, лучше молчи! Знаю я: ты этими крупинками-то, что о. Герасим тебе от ревматизма давал, на царя Соломона гадаешь!
Дьякон переконфузился и робко попытался оправдаться:
— Так ведь это одна осталась уж после исцеления!..
— Напрасно вы, матушка, так отзываетесь о лекарствах о. Герасима! Очень они помогают… — заступилась просвирня за ярого последователя гомеопатии. — В третьем годе и Васенька мне говорил, что у них в Москве в большом ходу такое лечение, все важные генералы крупинки глотают…
— Дураки, — потому и глотают! А курчонок-то мой всё-таки сдох и не от чего, как от этого лекарства! — безапелляционно решила попадья.
О. Герасим обиделся и нахмурил брови, что так не подходило к его постоянно улыбавшемуся, добродушному лицу. Это все заметили, и на крыльце невольно воцарилось неловкое молчание.
На землю спускался тёплый летний вечер. Готовое спрятаться за лесом солнце, точно заинтересованное гомеопатией, приостановило свой ход, выжидая, что скажут дальше. На ярко позолоченные верхушки деревьев набежал лёгкий вечерний ветерок и закачал ими, недовольно торопя их ко сну. И солнце послушно спряталось.
— Видевши свет вечерний, поём Отца, Сына и Святого Духа! — тихонько пробасил дьякон и, сдерживая зевоту, изрёк, чтобы как-нибудь прекратить молчание. — Вот она премудрость-то Божие: бысть утро, бысть день и бысть нощь!