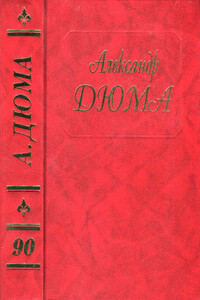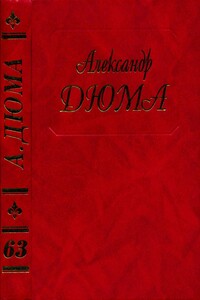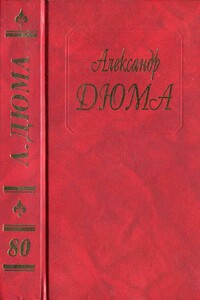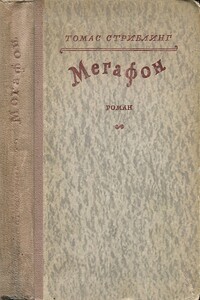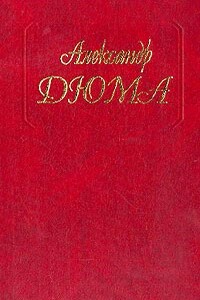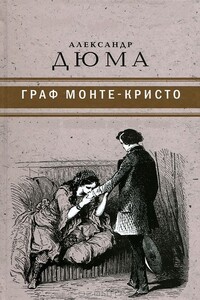Пятнадцатого 15 августа 1769 года в Аяччо родился мальчик, получивший от родителей имя Буонапарте, а от Неба — имя Наполеон.
Первые дни его юности протекали среди того лихорадочного возбуждения, какое всегда следует за революциями; Корсика, на протяжении полувека мечтавшая о независимости, только что была наполовину завоевана, наполовину продана и вышла из-под ига Генуи лишь для того, чтобы попасть под владычество Франции.
Паоли, разбитый при Понте Нову, намеревался искать вместе с братом и племянниками убежище в Англии, где Альфьери посвятил ему своего «Тимолеонта».
Воздух, который вдохнул новорожденный, был горячим от общественных распрей, а колокол, возвестивший о его крещении, еще звучал тревожным набатом.
Его отец, Карло де Буонапарте, и мать, Летиция Рамолино, оба принадлежавшие к патрицианским семьям и происходившие из прелестного городка Сан Миньято, который возвышается над Флоренцией, прежде были друзьями Паоли, но затем оставили его партию и примкнули к сторонникам французского господства.
И потому им было нетрудно добиться от г-на де Марбёфа, вернувшегося в качестве губернатора на остров, куда десятью годами ранее он высадился как генерал, протекции, необходимой для поступления юного Наполеона в Бриеннскую военную школу.
Прошение было удовлетворено, и некоторое время спустя г-н Бертон, заместитель директора этого училища, внес в свои реестры следующую запись:
«Сего дня, 23 апреля 1779 года, Наполеон де Буонапарте поступил в Королевскую военную школу в Бриенн-ле-Шато в возрасте девяти лет, восьми месяцев и пяти дней».
Новоприбывший был корсиканцем, то есть происходил из края, который еще и в наши дни борется против цивилизации, выказывая столь сильную косность, что сохраняет свою самобытность за неимением независимости.
Он говорил лишь на наречии своего родного острова, обладал смуглостью южанина и угрюмым и пронзительным взглядом горца.
Этого было более чем достаточно для того, чтобы возбудить любопытство со стороны его товарищей и усугубить его природную замкнутость, ибо детское любопытство насмешливо и лишено жалости.
Один из учителей школы, по имени Дюпюи, проникся сочувствием к бедному изгою и взялся давать ему индивидуальные уроки французского языка; уже три месяца спустя мальчик продвинулся в этом учении достаточно, чтобы воспринимать начатки латыни.
Однако в нем с самого начала проявилась неприязнь к мертвым языкам, которую он сохранил навсегда, в то время как способности к математике, напротив, стали развиваться у него с первых же уроков; в итоге, в силу одной из тех договоренностей, какие столь распространены в школах, он решал математические задачи, заданные его товарищам, а те делали за него переводы с латыни и на латынь, о которых он и слышать не хотел.
Та обособленность, в которой на протяжении первого времени пребывал юный Буонапарте и которая объяснялась отсутствием у него возможности делиться с другим своими мыслями, возвела между ним и его товарищами своего рода преграду, которая так и не исчезла до конца.
Это первое впечатление, оставив в его душе тягостное воспоминание, похожее на злопамятство, породило ту преждевременную мизантропию, какая заставляла его искать уединенных развлечений и в какой теперь кое-кто хотел бы видеть пророческие мечтания пробуждающегося гения.
Впрочем, кое-какие случаи, которые в жизни любого другого остались бы незамеченными, служат определенным подтверждением рассказов тех, кто пытался присовокупить исключительное детство к этой поразительной зрелости.
Приведем два таких случая.
Одним из самых привычных занятий юного Буонапарте было возделывание небольшого цветника, окруженного изгородью, куда он обычно удалялся в свободные от занятий часы.
Как-то раз один из его юных товарищей, любопытствуя узнать, чем тот может заниматься один в своем садике, взобрался на ограду и увидел, как его приятель расставляет в боевой порядок груду камней, размер каждого из которых указывал на его военный чин.
Буонапарте обернулся на шум, произведенный бестактным наблюдателем, и, видя себя застигнутым врасплох, приказал школяру спуститься с ограды; однако тот, вместо того чтобы подчиниться, стал насмехаться над юным стратегом, который, будучи мало расположен к шуткам, поднял с земли самый большой из своих камней и запустил им прямо в лоб насмешнику, отчего тот свалился вниз, довольно опасно раненный.
Двадцать пять лет спустя, то есть в момент наивысшего взлета его карьеры, Наполеону доложили, что некто, назвавшийся его школьным товарищем, просит разрешения поговорить с ним.
Поскольку интриганы не раз прибегали к подобному предлогу, чтобы добраться до него, бывший ученик Бриеннской школы приказал дежурному адъютанту справиться об имени этого бывшего однокашника; однако названное имя не пробудило у Наполеона никаких воспоминаний.
— Вернитесь, — сказал он, — и спросите этого человека, не может ли он привести какой-нибудь случай, который даст мне подсказку.
Адъютант исполнил поручение и вернулся, сообщив, что вместо ответа проситель показал ему шрам на лбу.
— А, вот теперь припоминаю, — сказал император, — это ему я запустил в лоб главнокомандующим!..