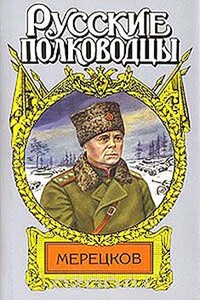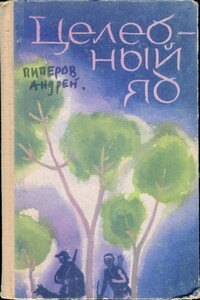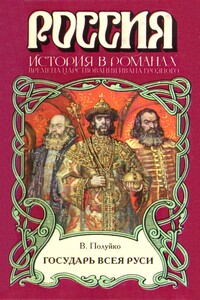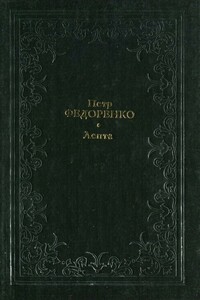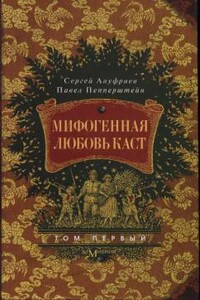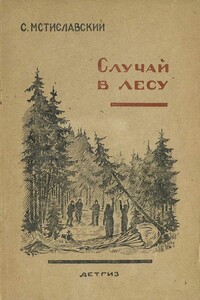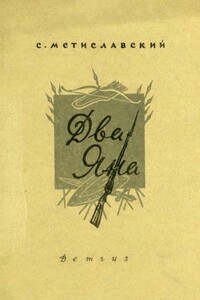После взморья — открытого, морозного (хорошо, ветра нет) — в аллее, вдоль Невки, под раскидистыми деревьями, перекрытыми по сучьям шапками белого пушистого снега, казалось уютно и почти, что тепло.
Еще стоял перед глазами морской, застылый, ледяной, синеющей дымкой задернутый по горизонту простор, далекие желтые огоньки на Лахтинском берегу, лунным голубым светом поднятый высоко в небо, словно повисший в воздухе над невидимыми во тьме стенами — золотой купол Кронштадтского морского собора. И тишь кругом — не выразить словом. Живая, радостная, затаившаяся в безгранности тишь.
Хорошо надумалось им — выйти ночью на Стрелку.
Странно от молчания, — такого вот, как только что было, когда он и она стояли, плечо тесно к плечу, на самом краю заснеженной, лунными искрами играющей отмели, сходящей в льдистый залив, — люди сближаются больше, больше роднятся, чем в самом задушевном разговоре. Так и с ними сейчас.
Знают они друг друга — и он и она — Андрей и Наташа — всего неделю: всего неделю, как встретились в медицинском институте, на докладе, который он делал, — "брат милосердия", студент, санитар-доброволец — о двух годах окопной своей работы: 1915 — 1916… После доклада, когда уже расходились, она подошла, глядя прямо в глаза лучистыми и добрыми, простыми глазами.
— Отчего вы ушли добровольцем… в госпиталь, а не… в полк?
На секунду он смутился как будто. От глаз? От вопроса? Голос прозвучал особо взволнованно.
— Не в полк… потому, что я не Могу убивать — по своим убеждениям. Выше человека, выше его жизни, ее красоты — для меня нет ничегоо. Человек для меня — с большой буквы. И я от призыва свободен — я один сын у матери-вдовы. Но оставаться дома, учиться, как раньше, в политехническом, готовиться в инженеры — я не мог, когда… такое испытание России, такие страдания народу. И я выбрал для себя самое страшное, потому что самое страшное — видеть муки и смерть других… Чужое страдание всегда бесконечно тяжелей своего… Я хотел облегчить, чем мог.
Ресницы девушки опустились. Длинные, мягкие, чудесные. Она спросила:
— И… облегчили?
Он вздрогнул, потому что этого вопроса не ждал. Но ответил тотчас, тоже опуская глаза:
— Я делал, что мог. И главное ведь в том, чтобы делать. А достигнуто или нет…
Другая медичка — черноглазая, чернобровая — спросила, обхватив подругу за талию, щурясь: насмешливым показался Андрею прищур черных глаз:
— Вы… не поэт, случайно?
Андрей вспыхнул.
— Не поэт, но… пишу. В «Дне» печатались мои военные очерки. Разве гуманность — свойство только поэтов?
Еще насмешливее сощурились глаза. Наташа растерянно и возмущенно взглянула на подругу, отвела ее руку.
Они вышли вместе.
И вот сейчас — рука об руку, в ночь, морозную, ясную, лунную, на пустом, замершем — ни людей, ни птиц — острове. Ночь. Наверное, два часа уже, не меньше.
Говорить не хочется. А так вот идти, прижавшись друг к другу… Медленно, бездумно по чуть-чуть хрустящему под ногой, чистому, свежему снегу.
Зачернел из-за поворота над белым пологом речки деревянный, нескладный, старый мост. Темные провалы полыней вкруг бревенчатых заледенелых устоев. Андрей и Наташа остановились не доходя. От ощущения, что их здесь никто, ни один живой глаз не видит, что они совсем одни будто во всем мире никого нет, кроме них, а там, за мостом — город… еще только шаг — и опять надвинутся на них дома и люди, тревога, забота, опять закричат в уши сиплыми голосами война, голод, разруха, — захотелось еще теплей, еще ближе ощутить друг друга. Он сбросил перчатку в снег и тихим движением отыскал ее руку. Рука вздрогнула ответным пожатием, крепким и долгим.
Внезапно на мост накатился рокот мотора. Грузная, огромной показавшаяся машина, шевеля откидными крыльями поднятого верха, вскреблась на оледенелое взгробье моста и стала. Дверца откинулась, гулко и коротко взлязгнув металлом. На дорогу выскочил офицер, чуть шатнулся на скользком раскате и осмотрелся во все стороны.
Было в этой фигуре, высокой и стройной, в серебряных погонах, вспузырившихся на сжатых хищным движением плечах, в башлыке, до самых глаз окутавшем лицо, столько настороженной угрозы, что Андрей и Наташа невольно пригнулись, шагнули в сторону, прочь от дороги, в сугробы, к берегу, в самую темь густо столпившихся здесь деревьев.
Приглушенно рычал на холостом ходу мотор. Офицер отошел на середину моста, осмотрелся еще, успокоенно мотнул головой, вернулся к машине. Шофер, приземистый, в барашковой шапке, тоже до глаз замотанный башлыком, торопливо выскочил из кабинки. Мелькнула еще голова, в офицерской фуражке и башлыке. По мерзлым доскам настила глухо затопали ноги, чуть прозвенела четким холодным звоном шпора.
Все трое, толкаясь плечами, нагнулись у дверцы. Распрямились, шагнули покачиваясь… Под лунным светом ясно увидели Андрей и Наташа: над серым брусом перил выпятились вперед, к реке, над рекою, ноги, странно прижатые друг к другу. Хлестнулись вдогон отвернувшиеся было назад тяжелые полы меховой роскошной шубы, всползло туловище, под мышки подхваченное руками в белых перчатках. Еще прозвенели шпоры, торопливо и перебойно, — и в шесть рук, приседая в коленях от натуги, люди завалили тело плечами на перила.