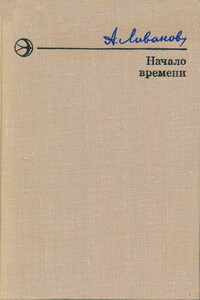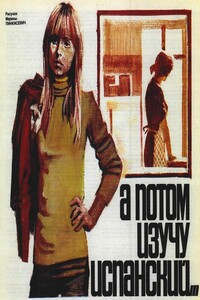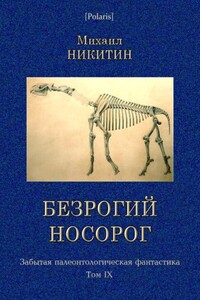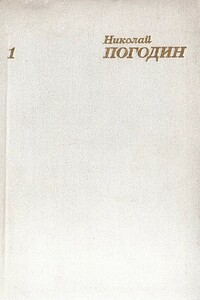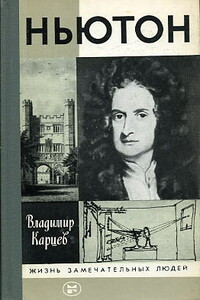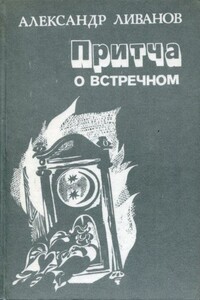Ливанов А. К.
Начало времени
Дочери моей, Надежде
…Привязяло, осадило слово
Даль твоих времен.
С. Есенин
…На подводе, тяжело груженной гнилым тряпьем и рванью, сидело двое менял. Они были без шапок, лохматы и черны, как цыгане. На темных лицах, в гуще таких же темных, всклокоченных бород и усов, дико сверкали белые зубы и голубоватые белки глаз. Веселые, громкоголосые люди, они, наверно, проводили ночи у лесных костров, ели печеную картошку, пили самогон, и умываться считали делом совершенно излишним.
А может, это и впрямь были цыгане? При всем старании я не смог увидеть их ног. Будто безногими проросли громкоголосые менялы из своего гнилого тряпья; так весной из осевшего грязного снега прорастают черные ракиты.
Зато очень хорошо рассмотрел я дергающиеся на тонких резиночках ярко–красные обезьянки с трепыхающимися ручками–ножками на пружинках; бумажно–фольговые с ниточками–меридианами серебристые и золотые шарики, заполненные опилками и пляшущие на тех же тонких резинках; глиняные свистульки слева и справа, на боках барашков–свистулек были дырочки, чтоб касанием пальцев украшать звук во время игры. Я уж не говорю про спички и иголки, шпильки и нитки, пугачи и гребенки, стеклянные пуговки–гудзики да парадно–симметрично выстроенные на глянцевитых бумажках сверкающие кнопки. Крохотные, аккуратные кнопочки мне чем‑то напоминали городских чистых и улыбчивых девочек. Правда, девочек таких я еще в жизни ни разу не встречал. Разве что в книжке–букваре «Червони зори», заляпанной чернилами и наконец доставшейся мне от Андрейки, моего друга, которому почему‑то быстро прискучила школа. В городских девочках этих на рисунках в книжке была воплощена непостижимая для меня аккуратность. Ни на Анютке, Андрейкиной сестренке и моей подружке, ни на любой другой деревенской девочке я не видел таких, например, изящных юбочек, таких красивых ботиночек и носочков-шкарпеток, таких гладко причесанных волос! Один вид этих девочек вселял в мою душу робость и неясное томление о далекой, недоступной мне красоте.
Да, на возу, в кованом сундучке и откинутой крышке его, были замечательные вещи. Правда, я все это видел еще раньше в лавке Йоселя. О, что это была за лавка! Каждый раз, когда мне доводилось бывать там, она ослепляла меня. Слишком волнующим и ярким было видение, чтоб я смог запомнить подробности…
На крышке сундучка у менял я заметил зеркальце, вернее, картинку на небольшом зеркальце–складенце.
Мать, принесшая полуистлевшие ошметки полушубка, вынуждена на миг прервать беседу с веселыми менялами — так отчаянно я дергаю ее за юбку. Я очень взволнован картинкой и слова молвить не могу! Лишь продолжаю дергать материнскую юбку, по ей сейчас явно было не до меня. Мать всегда легко смущалась, щеки то и дело вспыхивали застенчивым девичьим румянцем. Удивительно ли, что менялы своими двусмысленными шуточками уже успели вогнать ее в краску!..
Рука материнская тянулась ко мне, как к спасательному кругу. Наконец нашарив мое плечо, мать крепко прижала меня к себе. Или, скорей, сама прижалась ко мне, точно я мог быть ей опорой и защитником!
Зеркало не зеркало… Матери сейчас было все равно. Лишь бы уйти от этих менял и их смутительных разговоров… И вот оно, зеркальце, в моих руках!
Огородами, узкой, почти в одну ступню стежкой–тропинкой, друг за дружкой, чтоб не наступить босыми ногами на расползшиеся, как змеи, плети тыквы, с майдана возвращаются мать и увязавшаяся за нами соседка Олэна. Они толкуют о чем‑то своем, а я плетусь сзади. Мать я всегда и во всем ревную, а сейчас и про ревность забыл. Любуюсь не налюбуюсь картинкой на зеркальце. Останавливаюсь, смотрю на картинку, потом спохватываюсь, бегу догонять мать.
Кабаки на огородах в самом цвету. Среди больших лопушистых и наждачно–жестковатых листьев откровенно выставили они свои желтые, словно большие мохнатые шмели, кубкообразные цветы. Может, я впервые вижу, как цветет кабак? Или впервые вижу так отчетливо? Сочная зелень листвы и ярко–желтые цветы. Но главное, — эти же два цвета и на картинке зеркальца! Правда, на ней изображена не тыква, а несколько кленков на лесной опушке. Деревья — в желтой листве, а трава только кое–где тронута желтизной.
Я вдруг чувствую острую тоску о каком‑то неведомом, ярко–красочном и празднично–прекрасном мире. Я плачу, бегу к матери, чтобы молча ткнуться лицом в подол ее юбки. Мне стыдно своих слез.
Мать пытается заглянуть мне в лицо. «Что такое? Ну что случилось?»
Я еще сильнее прижимаюсь лицом к ее коленям.
Мать озирается, как бы ища невидимого обидчика моего, и, вздохнув, пожимает плечами. Сконфуженно переглядывается она с соседкой — та тоже молча пожимает плечами.
— Чудной он у тебя, Нина. Какой‑то не такой, — говорит матери соседка Олэна. Мать гладит меня по голове, на соседку не смотрит.
— Уж какой ни есть — на базар не несть…
Олэна обиженно поджимает губы. В словах матери ей, наверно, слышится укор ее бездетности.
В узкой прогалине между ивовыми пряслами плетня — перелаз. Вместо калитки эта перекрещенная и сдвоенная скамеечка перелаза надежно охраняет двор Олэны и Симона, наших соседей. Ни чужая свинья, ни поповская шкодливая коза не забредет в их огород. Соседка заносит ногу на перелаз — я вижу ее тугую, загорелую икру. Она холодно прощается с матерью. Мать с жадностью подхватывает меня на руки, прижимает к груди и целует, целует… Глаза материнские близко–близко у моих глаз. Какие опи счастливые! Что это вдруг с мамой? Почему она так неистово прижимает меня к груди?