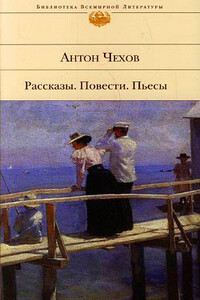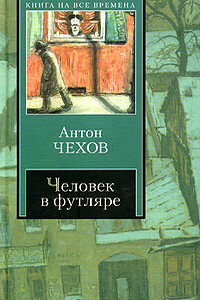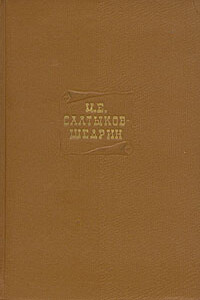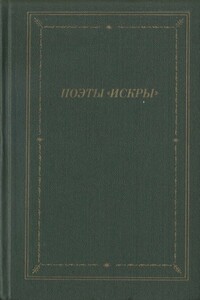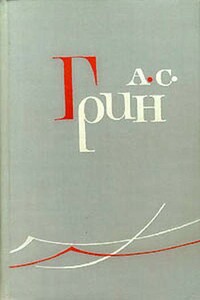I
Пароход шел вниз по течению, держась горного берега. В темной воде разлива мерно дрожали и плыли его огни — маленькая движущаяся иллюминация, — зеленое с красным, похожее на глаза безобидного, праздничного дракона.
Холодный апрель дышал сыростью, широким простором и пресным запахом еще не растаявшего по берегам снега. Пассажиры первого и второго класса легли спать, в третьем еще пили чай с сушкой, бережно обсасывая кусочки сахара и одалживая у соседей лимон, чайные ложки, сахарные щипцы. Слепой, давно надоевший гармонист, окруженный матросами и бабами в душегрейках, играл волжские песни; его молодое, пришибленное лицо сохраняло профессионально-скорбное выражение, в то время как привычные пальцы равнодушно перебирали лады трехрядки, фыркающей потертым мехом.
Капитан, похожий на капитана Немо, суровой внешности, плечистый, с черной окладистой бородой, в валенках и полушубке, крытом сукном, стоял у штурвала, рассказывая окоченевшему от холода лоцману историю с бирками, кончившуюся печально для водолива с Судачевской баржи.
Быстрый, певучий, окающий говорок капитана странно не шел к его романтической внешности.
— Н-да, — сказал лоцман, скрипя штурвалом. — Жадничество, конечно, оно вредит.
— Я же говорю, Ермилин, — возьми он десять кулей — леший ему в толы, и кончено. Матрос-от, что бирки рвал, шустрый был, что говорить, кукарекни жулик, да зарвался. Тачки бегут, а хлебник, хозяин, — у сходен смотрит. Конечно, подождать бы, а матрос и вдави бирку в куль, да свои из руки рассыпал, нагнулся дать и растянулся под тачку. «Стой!» — хлебник кричит, подошел, — бирка-то, в куль неподавленная, торчит. — Что такое?.. Воровать?! Давай кули считать! Полезли в трюм, бирки посчитали — четырнадцать кулей свистнули!..
— Н-да! — сказал лоцман, щуря глаза на темноту. — Жадничество-то, оно из кармана норовит…
Капитан потоптался; резкий ночной ветер слал холод и скуку, и, казалось, от скуки вздрагивал маленький пароход, бивший маленькими колесами черную воду разлива. Невидимые редкие льдины шуршали, задевая обшивку судна; вдали мелькнул крошечный огонек, вильнул и поплыл навстречу, разгораясь все ярче, как на ветру уголь.
— Тырышкинцы, — сказал капитан.
— Пошто тырышкинцы? — возразил лоцман. — Тырышкин пароходы еще в затоне держит. Энто казанские.
Капитан взял рупор. Встречные огни парохода двигались слева и совсем близко, судя по ясно различаемым, освещенным фонарем, белым доскам площадки.
— Кто таки-и-и?.. — закричал капитан в рупор, я странный, отраженный медью трубы голос его заухал далеким береговым эхом.
— Ты-ры… ы-ы… — гулко пролетел сдавленный возглас.
Капитан пососал усы и, снова приставив рупор, крикнул из всех сил:
— У ты-рыш-ки… на лок-тя-а-х… кафтан… про-дра-ал-ся-а-а… — Повернувшись ухом к врагу, он с нетерпением ждал ответа, улыбаясь неожиданному развлечению.
— Сам ду-у-ра-ак!.. — крикнули с парохода.
II
Капитан, поужинав холодной телятиной с огурцами, лег спать. Немного погодя сменился и лоцман, но спать ему не хотелось; напившись в лоцманской чаю, он вышел на палубу, тыкаясь среди сонных, распростертых у машинного кожуха, мужицких тел, задумчиво послонялся у кухни, где повар, ворча и проклиная буфетчика, устраивал себе ложе на остывшей плите, затем подошел к машине, облокотился о ящики с гвоздями — груз, следовавший в Нолинск, и тяжело засопел, разглядывая в тысяча первый раз отполированные, крутящиеся кривошипы.
Лоцман походил на угодника, какими рисуют их на иконах, с той разницей, что благочестиво-суровое выражение уступало в его лице место рассеянному, добродушному лукавству старого мужика. Ему было давно за сорок; лохматый, в красной бумажной рубахе и валенках с белыми пятнышками, он казался теперь мужичонкой, остановившимся поглазеть.
— Черта глядишь, — сказал он масленщику, длинному парню с недоброкачественным цветом лица. — Глядь, глядь ужо.
Масленщик вытирал свертком пакли нагретую маслянистую сталь.
— Если ты потревоженный человек, — медленно сказал он, скашивая глаза на сверкающие диски эксцентриков, — то отчепись.
— Уши тебе мало драли, — зашипел лоцман. — Я, чать, старшей тебя. Ты как старшему отвечать должен?
Масленщик перевел каменный взгляд с машины на свои руки, пестрые от нефти, сплюнул и снова с остервенением принялся подвинчивать крышки масленок. Лоцман, помолчав, продолжал:
— Если оно пар, то ты объясни, что и к чему. Ежеле к тебе по-людски, а не то что как… Насчет бани, например.
— Какая баня, шут еловый? — вскричал парень. — Спи иди, спи; глаза-то уже не смотрят!
— Баня, — конфузливо, но с оттенком начальственности ухмыльнулся Ермилин, — баня на паре… паром дышит… Ну… Я к тому, что баня не приспособлена. По-настоящему, ежели пар, то и баня должна ходить.
Масленщик хмуро ворочался между взлетывающими рычагами.
Лоцман сказал:
— Баяли, что баба на пароходе родит.
— Наплевать, — проворчал парень.
— Наплюй, наплюй… — сонно протянул лоцман, пришедший в добродушное настроение от чая и тепла машинного воздуха. — Наплюй ей, козявке, в хвост. А папироску хошь?
Парень осклабился.
— Дай! — сказал он, протягивая грязную руку.
— Ну на уж.