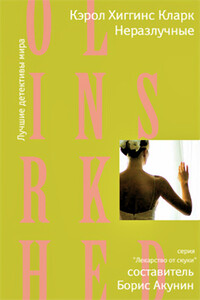Рассказ
Лет десять тому назад… Но, впрочем, надо обозначить нынешний день, соотнеся его с каким-то важным событием, а потом уж отсчитывать — так точнее обозначится время.
Нынче на многое в прошлом мы оглядываемся, и эхо давно случившегося достигает нас, повергая в состояние контузии той или иной степени. Мы побуждаемы к размышлению, мы жаждем осознать происшедшее ранее, нам хочется привести свои возбужденные мысли в стройную систему, растревоженные чувства в упорядоченное состояние. Вон в газетах печатают политические портреты тех, кто был безвинно казнен, и тех, кто их казнил; в журналах публикуют ранее клейменные и проклятые романы; обнажаются застарелые язвы и выносится точный диагноз былого общественного недуга; невеселыми размышлениями отмечается вторая годовщина Чернобыльской катастрофы…
Вот, пожалуй, упоминанием о Чернобыле, и можно сориентировать день нынешний, а уж от него отсчитать десять лет назад. Таким образом я привязываю свое повествование, как глупого теленка к тычку, в землю вбитому.
Итак, со временем все ясно. Теперь о месте действия: дело было в Новгороде, я работал тогда… Титул у меня был пышный, вернее, длинный: ответственный секретарь Новгородской областной писательской организации. Человек на такой должности облечен ответственностью, но, увы, не властью, следовательно, благо, которое он может совершить, имеет весьма ограниченные размеры. Тем более в Новгороде, где численность организации была очень невелика: пять человек. При таком малом составе должность ответственного секретаря считалась синекурой и была тогда желанна для любого из новгородских писателей, исключая разве что смиренного старичка, не претендовавшего решительно ни на что и жившего даже не в Новгороде, а в Боровичах. Каждый из остальных рядовых членов (назову их: Прозаик, Поэт, Драматург) проводил политику столь хитрым образом, чтоб свалить должностное лицо — ответственного секретаря — и самому стать таковым. Иллюзия простоты этой операции подогревалась тем, что один человек по сути составлял четвертую часть нашей организации, а два — ее половину. При нейтралитете третьего, двое уже составляли большинство.
Это большинство из двух человек, Прозаик и Поэт, распив бутылку яблочного вина в станционном или гостиничном буфете, являлось в наш писательский оффис с самыми решительными намерениями — чаще всего они требовали денежных выплат под каким-нибудь соусом.
Кстати, об «оффисе»: это была довольно большая комната на нижнем этаже, с двумя окошками, выходящими на грязный неухоженный двор. У нас постоянно воняло канализацией, и наши отчаянные обращения в домоуправление и выше не помогали: нам объясняли, что дом старый, трубы прогнили, отремонтировать их невозможно, надо заменять, а замена — это уже капитальный ремонт, который намечен на следующую пятилетку или чуть далее. Восемь лет занимал я свой высокий пост и все восемь лет вкушал канализационные ароматы. Не один, разумеется, а вместе со всеми профессиональными писателями Господина Великого Новгорода и нашим литературным активом. Впрочем, с художниками тоже: они соседствовали с нами, их «оффис» был бок о бок с нашим.
Итак, мое оппозиционное большинство являлось ко мне и поднимало любой вопрос, решая его в свою пользу самым простым, так сказать, демократическим путем — открытым голосованием. Процедура эта происходила у нас довольно часто — тут надо учитывать древнюю традицию вечевого новгородского правления, следовательно, неизбывную тягу к ней, генетически заложенную в крови.
Прозаик с Поэтом, требуя денег, ставили правящее лицо, в данном случае меня, в тяжкое положение: ведь они считались только с собственными нуждами, а не с возможностями самой маленькой писательской организации в России и не с финансовой дисциплиной. Коллеги мои рассуждали на удивление трезво и логично: если есть на свете деньги, значит, они должны быть разделены и не как-нибудь, а на три части: Поэту, Прозаику, Драматургу; старичок в Боровичах не в счет — у него пенсия. А то, что имеющиеся деньги полагается тратить на исполнение какой-то работы, во внимание не принималось. В том и было коварство их политики: нажать на ответственного секретаря с тем, чтобы он допустил финансовые нарушения, и тогда уж снять его с должности как раз за эти преступления.
Я отказывался нарушать закон, тогда большинство выносило решение о смещении меня с должности: уходи, мол, князь, не надобен еси.
Ну, дело прошлое, и я не стал бы распространяться о кипении наших страстей, не стал бы даже и упоминать о них, если бы они не имели касательства к тому главному, о чем я хочу поведать.
Скажу только, что обком партии неизменно вмешивался в ход писательских дворцовых переворотов, желая примирить непримиримое. Для этого в обкоме имелся подходящий работник — Виктор Иванович Кулепетов, очень милый человек, одаренный к тому же явными дипломатическими способностями: вставши на вершине воздвигнутых нами баррикад, он умел красноречиво воззвать к нашему здравому смыслу, усовестить и усмирить. «Ну, как вы не понимаете, Юрий Васильевич? Ясно же: незрелые люди!» — говорил он мне доверительно о моих оппозиционерах. И столь же сердечно им обо мне: «Красавин молодой еще, неопытный…»