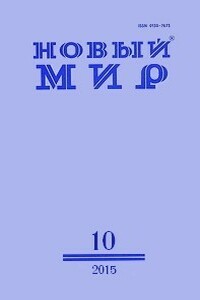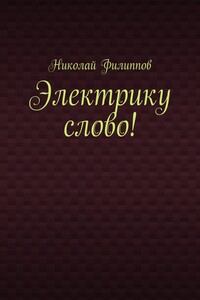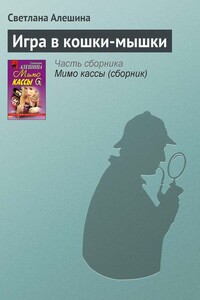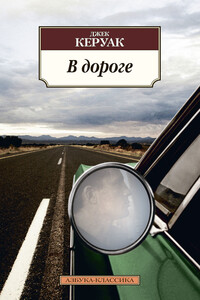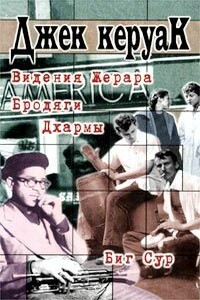Я впервые встретил Дина вскоре после того, как мы с женой расстались. Я тогда едва выкарабкался из серьезной болезни, о которой сейчас говорить неохота, достаточно лишь сказать, что этот наш жалкий и утомительный раскол сыграл не последнюю роль, и я чувствовал, что все сдохло. С появлением Дина Мориарти началась та часть моей жизни, которую можно назвать «жизнью на дороге». Я и прежде часто мечтал отправиться на Запад посмотреть страну, но планы всегда оставались смутными, и с места я не трогался. Дин же – как раз тот парень, который идеально соответствует дороге, поскольку даже родился на ней: в 1926 году его родители ехали на своей колымаге в Лос-Анжелес и застряли в Солт-Лейк-Сити, чтобы произвести его на свет. Первые рассказы о нем я услышал от Чада Кинга; Чад и показал мне несколько его писем из исправительной колонии в Нью-Мексико. Меня эти письма неимоверно заинтересовали, поскольку в них Дин так наивно и так мило просил Чада научить его всему, что тот сам знал про Ницше и про все остальные дивные интеллектуальные штуки. Как-то раз мы с Карло говорили об этих письмах в том смысле, что познакомимся ли мы когда-нибудь с этим странным Дином Мориарти. Все это было еще тогда, давно, когда Дин не был таким, как сегодня, когда он был еще сплошь окруженным тайной пацаном только что из тюрьмы. Потом стало известно, что его выпустили из колонии, и что он впервые в жизни едет в Нью-Йорк. Еще ходили разговоры, что он только что женился на девчонке по имени Мэрилу.
Однажды, когда я шлялся по студенческому городку, Чад и Тим Грэй сказали мне, что Дин остановился на какой-то квартире безо всяких удобств в Восточном Гарлеме – то есть, в испанском квартале. Он приехал прошлой ночью, в Нью-Йорке первый раз, с ним – его остренькая и симпатичная подружка Мэрилу. Они слезли с междугородного «грейхаунда» на 50-й Улице, свернули за угол, чтобы найти чего-нибудь поесть, и сразу зашли к Гектору, и с тех самых пор кафетерий Гектора всегда оставался для Дина главным символом Нью-Йорка. Они тогда истратили все деньги на здоровенные чудесные пирожные с глазурью и взбитыми сливками.
Все это время Дин вешал Мэрилу на уши примерно следующее:
– Ну, милая, вот мы и в Нью-Йорке, и хоть я не совсем еще рассказал тебе, о чем думал, когда мы ехали через Миссури, а особенно – в том месте, где мы проезжали Бунвильскую Колонию, которая напомнила мне собственные тюремные дела, теперь совершенно необходимо отбросить все, что осталось от наших личных привязанностей, и немедленно прикинуть конкретные планы трудовой жизни… – И так далее, как он обычно разговаривал в те, самые первые дни.
Мы с парнями поехали к нему в эту квартирку, и Дин вышел открывать нам в одних трусах. Мэрилу как раз спрыгивала с кушетки: Дин отправил обитателя хаты на кухню, возможно – варить кофе, а сам решал свои любовные проблемы, ибо для него секс оставался единственной святой и важной вещью в жизни, как бы ни приходилось потеть и материться, чтобы вообще прожить, ну и так далее. Все это было на нем написано: в том, как он стоял, как покачивал головой, все время глядя куда-то вниз, будто молодой боксер, получающий наставления тренера, как кивал, чтобы заставить поверить, что впитывает каждое слово, вставляя бесчисленные «да» и «хорошо». С первого взгляда он напомнил мне молодого Джина Отри[1] – ладный, узкобедрый, голубоглазый, с настоящим оклахомским выговором, – в общем, эдакий герой заснеженного Запада с небольшими бакенбардами. Он и в самом деле работал на ранчо у Эда Уолла в Колорадо до того, как женился на Мэрилу и поехал на Восток. Мэрилу была миленькой блондинкой с громадными кольцами волос – целое море золотых локонов. Она сидела на краешке кушетки, руки свисали с колен, а голубые деревенские глаза с поволокой смотрели широко и неподвижно, потому что сейчас она торчала в сером и злом Нью-Йорке, о котором столько слышала дома, на Западе, сидела на хате, словно длиннотелая чахлая сюрреалистическая женщина Модильяни, ожидающая в какой-нибудь важной приемной. Но помимо того, что Мэрилу была просто милашкой, глупа она была жутко и способна на ужасные поступки. Той ночью все пили пиво, болтали и ржали до самой зари, а наутро, когда мы уже оцепенело сидели и докуривали бычки из пепельниц при сером свете унылого дня, Дин нервно поднялся, походил взад-вперед, подумал и решил, что самое нужное сейчас – заставить Мэрилу приготовить завтрак и подмести пол.
– Другими словами, давай шевелиться, милая, слышишь, что я говорю, иначе будет один сплошной разброд, а истинного знания или кристаллизации своих планов мы не добьемся.
Тут я ушел.
На следующей неделе он признался Чаду Кингу, что ему абсолютно необходимо научиться у того писать. Чад ему ответил, что писатель тут – я, и что за советом обращаться надо ко мне. Тем временем, Дин устроился работать на автостоянку, поссорился с Мэрилу у них на новой квартире в Хобокене – одному Богу известно, чего их туда занесло, – и она так рассвирепела, что замыслила месть и позвонила в полицию с каким-то вздорным, истеричным, идиотским поклепом, и Дину пришлось из Хобокена свалить. Жить ему было негде. Он поехал прямиком в Патерсон, Нью-Джерси, где я жил со своей теткой, и как-то вечером, когда я занимался, в дверь постучали, и вот уже Дин кланялся и подобострастно расшаркивался в полумраке прихожей, говоря при этом: