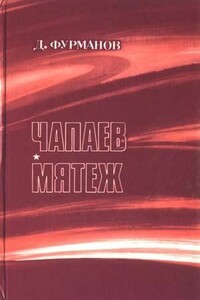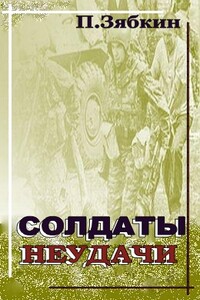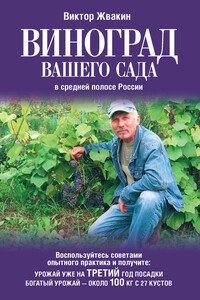I. ПО СЕМИРЕЧЕНСКОМУ ТРАКТУ
Девятьсот двадцатый год. Март. По Ташкенту, по аллеям — золото ранней сухой восточной весны. В теплом воздухе — сонная, ленивая тишина. Многоцветные пряные сарты[1] по уютным лавчонкам смачно пожевывают сочный кишмиш. Редким гостем проскочит из-за угла кожаная тужурка, проскользнет парусиновый зеленый портфель, зафыркает в отдаленье автомобиль, — это мчится кто-то на заседание ревсовета. Все туда — к огромному каменному дому, где кипит тревогой жизнь, где до зари и за зарей прыгают лихорадочно бессонные пальцы по растянутым на стенах полотнищам карт, унизанным многоцветными клумбами звездочек, головастых булавок, пернатых флажков.
Глухая, забаюканная, ленивая тишь. По улицам в мертвом городе мертвый покой. А в каменном доме — за широкими столами, у карт стенных, у столиков, где стрекочут неугомонные морзе, в глухой шифровалке таинственные имена: Иргаш, Мадамин, Хал-Хаджа, Курширмат…
От разбойников нет покоя многострадальной Фергане. И в другом краю, на далеком Семиреченском фронте, где под Копалом сдалась белая армия, грозные, ядреные остатки битой армии с Анненковым, со Щербаковым скачут в Китай… Им надо отрезать путь, нагнать, уничтожить, убить последнюю возможность возврата тяжелой боевой страды. Не замирающая ни на миг, тревожная забота мечется по холодным высоким комнатам ревсовета, и нет здесь доступа золотым лучам туркестанского солнца. И люди здесь иные, — не те, что в сонной дремоте бродят тенями с аллеи на аллею: перехвачены ремнями тугие корпуса, оттянуты револьверами кожаные куртки, строги суровые желтые лица, кратки и четки холодные речи. И встретив на воле долгим изумленным взглядом провожают их цветные халаты, лениво пережевывая пряный кишмиш.
Мы сегодня целый день, как волчки, вкруг ревсовета. Мы завтра ранним утром покидаем Ташкент. Уезжаем в Семиречье, в Верный. На заманчивую неведомую работу. Неизменный Василь Василич прихлопывает нам оранжевой печатью семимильные мандаты. Я на свой улыбнулся не раз: тут целая программа в сто параграфов, устав, весь мой символ веры. «Если, — подумал я, — все выполнять, что сказано в этом мандате, — сроку надо никак не меньше двести годов. Это вот так мандатец: с таким и в воде не утонешь, в огне не сгоришь». Гляжу — и сам Василь Василич улыбается. Но не место здесь шутить. Он молчалив и серьезен: должность такая. Он посмеется потом, а теперь лишь смачно и крепко прихлопнет именитую бумагу, подожмет плотно губы под черные усики и крякнет, словно после рюмки в трескучий мороз.
Это в ревсовете. А против — угол на угол — политуправление фронта. И здесь суета неуемная. Шутка ли: уезжает в глухую даль — кто знает, на сколько времени, на какие дела и тревоги и опасности — целая артель ответственных работников. Тут мы все, в политуправлении, жили тесной дружеской семьей. Многих спаяли и давние боевые связи: кому помнились погони за махновскими бандами, кому уфимские бои с Колчаком, уральские ли вольные степи, донские ли просторы, а с ними — Деникин, Краснов, Каледин, Покровский. У каждого — свое. У многих — общее. И у всех — одно.
Семья спаялась — любо работать. Вчера ввечеру собрались мы последний раз и до глубокой ночи сидели вместе: это была прощальная дружеская беседа. Вспоминали разнос — кому что в памяти, кому что дорого. Но было одно, что пронизывало звонкий, веселый шум:
— Ах, и жалко же, ребята, расставаться!
Привычка — дело не малое. А привычка в работе, да еще к таким ребятам — уж и вовсе дело большое.
Мы раскалывались пополам: одна половина здесь, другая далеко-далеко, почти на тысячу верст за горы, в Верный. Были мы все в эту ночь то безудержно веселы, шумны, то серьезны вдруг, торжественно-молчаливы — со стороны, верно, немного смешны. Не было ложного пафоса — задушевная, волнующая искренность, нужные простые слова. Речи, речи, речи… Выступали до единого. А было нас человек тридцать… Ах, какая это была удивительная, незабываемо-памятная ночь!
Вот Палин, черный, как ворон, с трубкой в зубах, проводит рукой по кудрявой, косматой гриве, заканчивает свое очередное слово:
— Что бы ни было, товарищи, а эти последние месяцы останутся лучшими в моей жизни…
— Они станут еще лучше, Палин, если сделаешься большевиком, — ввернул кто-то с другого конца стола.
— Ну, это оставь, не тронь — теперь не время…
— Большевиком сделаться всегда время…
И сидевшие за столом громко рассмеялись.
Женоподобный, безусый Гарфункель, тоже меньшевик, поспешил на подмогу своему приятелю:
— Это, товарищи, верно… Сейчас нельзя. И не надо сейчас, — вопрос требует, чтобы над ним глубоко подумать…
Сказал — и пунцовые девичьи щеки залило краской смущенья.
— Бросьте, ребята, сами очухаются, — молвил кто-то примиренным тоном.
Эти слова были пророческими: оба липовых меньшевика уже вскоре были в наших рядах. Не слова, не увещанья, а живая практическая работа, в которой варились они изо дня в день, убедила их отказаться от фальши меньшевистской и взяться за серьезную, настоящую работу — по-настоящему, по-большевистски.
Вот девочка Лидочка, восемнадцатилетний несмышленыш, кристально чистая и наивная, как дитя. Она наша общая любимица. Лидочка в те дни еще ничего-ничего не понимала: только улыбалась и торопилась скорей согласиться с тем, кого слушала, — боялась обидеть своим несогласием. Она в ту прощальную ночь ничего-ничего еще путем не знала — про революцию, про большевиков, она разумом была, как птенчик: робка, невинна и чуть-чуть даже смешна. А потом… Потом вместе с нами и она прошла трудный путь, вынесла и выдержала испытанья тех дней, когда смерть стучала по нашим вискам, — Лидочка в эти дни была в грозе и буре восстанья вместе с нами… Она теперь тоже большевичка. Она заведует областным женотделом…