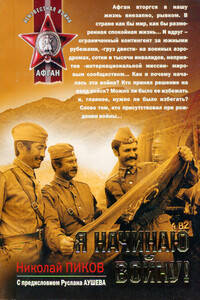Семь долгах дней тело Йонатана изнывало в ожидании вечера понедельника, требуя глубокого дыхания, плавных движений, точных изгибов. Он снял кипу[1], скрутил ее в трубочку, неуверенно осмотрелся, прикидывая, куда бы ее положить. Затем снял очки (давно пора сделать лазерную коррекцию и избавиться от них — промелькнул внутренний упрек), привычным движением втолкнул их в свернутую кипу, сбросил рубашку, белые полотняные цицит[2] и тесные джинсы, натянул тренировочные штаны. Шел месяц кислев[3], приближалась Ханука[4], а солнце по-прежнему жарило посреди неба, словно намеренно заслоняя своей мощью путь каждой капле дождя, лишая растрескавшуюся почву долгожданной влаги.
Слова Шая, произнесенные им размеренно и отчетливо, были прицельными и точными — он не сомневался, что каждое из них достигнет ушей и сознания учеников:
— Направим во все части тела легкое, бережное дыхание, проведем его по ним, отнесемся к каждой из них как к единственному сыну. Одному-единственному. Теперь дойдем до черепа: чистый воздух попадает в нос и поднимается вверх, окутывает мозг, обволакивает каждый нейрон, нежно выметает все черные осадки, накопившиеся по краям. Это — пыль, осадок вашего сознания, там так много грязи, злобы, неприязни, там скапливаются и лежат целые слои яда, эгоизма и высокомерия, они скрывают от вас суть. Направим этот воздух в самую высокую точку и задержим его там. А теперь одним резким выдохом — не стесняйтесь сделать это громко — все вместе вытолкнем весь воздух.
Фуууу.
Шай с заметным волнением вытолкнул из себя воздух, потряс головой, и его зрачки весело заплясали туда-сюда. Йонатан следом за ним выдохнул свой накопившийся яд, но его «фуууу» вышло куцеватым. Он попытался собраться, достичь точки покоя и уверенности, но понял, что все его попытки будут тщетны, и не потому, что шумно или что учитель недостаточно хорош, а из-за тревоги. Тревоги о его и Алисином «вместе», которое со временем все больше разрушалось, напоминая ему осыпающуюся стену в обшарпанной квартире, которую они снимали в бедном районе.
Он приходил сюда, чтобы немного отдохнуть от этого запустения, отдышаться от всепоглощающей любви к женщине, которая заново открыла ему жизнь, научила его страсти и нормальности. Так почему же теперь он отдаляется от нее, почему хочет сбежать именно теперь, когда ѓалаха[5] делает их позволенными друг другу?[6] Девять месяцев, сорок недель, двести семьдесят безвинных дней им разрешено быть полностью вместе, стать единым целым и наполнить ангельской любовью свой маленький личный храм. Не тот, первый, что был разрушен год и четыре месяца назад, в месяце ав 5770 года[7], когда случился выкидыш, а второй, который они возводят с начала их второй беременности. Так почему же в этом храме больше нет чудес?
Йонатану было непросто приходить в центр «Эфрон», что в Долине Креста. Он понимал, что, занимаясь йогой, идет против традиции. Однако такое неповиновение будоражило и манило его. Это была «тайная диверсия», грозящая нарушить устои и продемонстрировать, как они, религиозные евреи, не страшатся найти связь со своим телом, которое всегда игнорировали ортодоксы, стремясь только к духовным поискам. Разумеется, все здесь соблюдают правила, нет и намека на, Боже упаси, смешение мужчин и женщин, и все же абсолютное большинство раввинов при каждом удобном случае противятся таким занятиям, напоминая сказанное в респонсах[8], что под оболочкой йоги спрятано язычество, что создатели ее были идолопоклонниками, чья похоть — как у жеребцов[9], и что надлежит во что бы то ни стало избегать ее. Никаких поблажек, никаких компромиссов. Из низменной нечистоты этого языческого культа не может появиться даже слабой божественной искры, и поэтому то, чем они занимаются каждый понедельник после полудня в центре «Эфрон», — запрещенное, непотребное извивание, и ничего более.
Именно неповиновение, будоражащее кровь всех, кто занимался здесь, — от студентов школы даянов[10], расположенной в поселении Амация близ Лахиша, до земледельцев с крупными ладонями, выращивающих цветы на «букеты к святой субботе» в дальних селениях Иорданской долины, — именно оно сегодня отвращает Йонатана, вызывает в нем отчуждение и раздражение.
Именно Йонатан, отказавшийся от успешного будущего самого талантливого студента ешивы[11], как никто способный постичь глубочайшую мудрость ришоним[11], именно он, настоятельно требовавший от растерянного главы ешивы ввести уроки йоги в обеденный перерыв, вновь и вновь наизусть цитировавший предписания рава Кука из книги «Источники света»[12] о необходимости вернуться к телу и укрепить его, именно он после армии начал отступать от своих убеждений. Словно лишь тогда, спустя три года после смерти Идо, осознал, что брата больше нет, что тот скончался не от природного катаклизма, а потому что некто — истинный Судья — убил его. Да и к чертям это благопристойное, безмятежное слово — «скончался». Он был убит, да-да, кто-то убил его. Вот так просто, без какой-либо причины. За что, черт возьми, убивать четырнадцатилетнего ребенка? И с тех пор обиженный Йонатан начал отдаляться от обманувшего его тела, от обманувшего Бога, от жизни и друзей, в которых обманулся сам. Это было тягостное, изматывающее отступление. Он позволил гнили вялости расползтись по нему, беспрепятственно захватывать в нем бастион за бастионом. Он даже почти хотел этого.