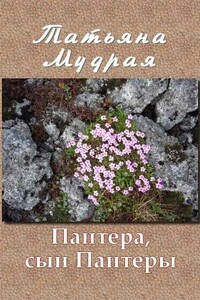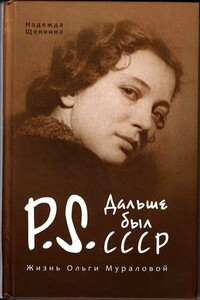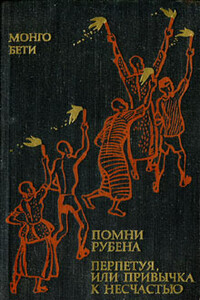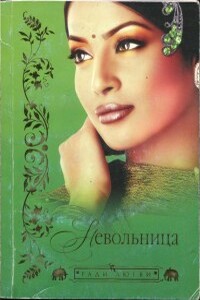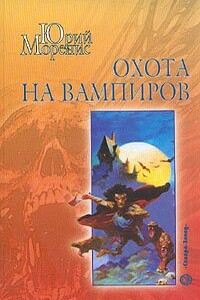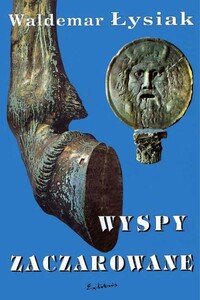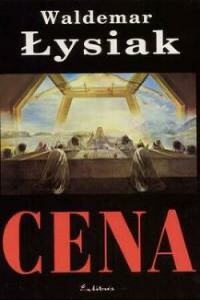MW: З А Л XIV В Ы Г Н А Н Н Ы Е Д Е Т И
"Вот вам рассказ мой. Олени кличут ланей
И умирает лето. На нас мчит страшная зима
А ветер солнце бледное как свечку задувает
Свернулся кровью папоротник. И в море шторм
И дикий гусь в смертельном поединке уж голову вздымает
Замерзшим бьет крылом. Вздымаясь над морозным полем
У мира голову срубили. Вот весь рассказ мой"
Древнеирландская анонимная песнь X века
Творить можно пером, кистью, резцом и частицей самого себя. Эту частицу тела и души, сердца и мозга отдаешь ему - произведению. И гений, и графоман в этом равны, разве что от первого берется частица гения, и она остается, а от второго подделка, эрзац - одинаково рьяно вырываемый из тела - того таланта, которого не достало. Но вот чтобы всего себя, всю душу, до остатка, до безумия отдать творчеству и своему произведению - для этого следует быть пьяным ребенком, для этого нужно быть безумцем, животным, Богом.
Таким был Хаим Сутин, маленький еврейский говнюк из Белоруссии, который до конца жизни, даже в Париже, даже уже известный и знаменитый, выставляемый и покупаемый, так и остался маленьким еврейским говнюком, из Белоруссии изгнанным, сопливым, пьяным до потери сознания, не имеющим носового платка и уважения к чему-либо кроме собственных наваждений. Как я понимаю его и как люблю за то, что не было у него этого носового платка, и как я завидую ему за этот его извечный страх, который имеется и во мне, но только уже прирученный, лишь изредка кусающий свой намордник...
Было в нем нечто от Курбе, которого как-то пригласила на обед богатая и влиятельная мадам де Грев. Приглашение было укороновано припиской: "Только прошу обязательно прибыть в воротничке!" Когда пришло время обеда, в дом к госпоже де Грев пришел курьер с посылочкой, в которой удобненько расположился накрохмаленный, снежно-белый воротничок с надписью, сделанной тушью: "Уважаемая госпожа! Месье Курбе весьма сожалеет, но он и я являемся врагами не на жизнь, а на смерть, посему вместе никогда нигде не появляемся, в связи с чем я пришел сюда сам."
Так вот, было в нем нечто от этого, но вот сейчас, когда я должен выявить, что конкретно, то даже и не знаю; я это просто чувствую. Может быть... возможно даже только это "вместе не появляемся", ибо, во-первых, у Сутина этого белого воротничка никогда не было, и он вообще не замечал, что нечто подобное существует; а во-вторых, салонное искусство антисалонного остроумия было ему чуждо, злословить он умел лишь по отношению к себе самому. Сам он пошел бы на тот обед, а как же, приплелся бы, этот принц, вечно переодетый нищим, как ходил вечно: в рваных башмаках, в брюках, проеденных мочой, в вонючих подштаниках и с чиряками будто две полинезийские жемчужины в том месте, где джентльмены носят "убийственные усики".
Именно таким описала его Изабелла Чайка-Стахович в своих парижских мемуарах, чтение которых потрясло мною, как мало что на двадцать втором году собственной жизни. Мне хотелось рыдать, когда я читал это в первый раз и во второй, и в третий...
Они шли по левой стороне Монпарнаса, по направлению к вокзалу, и ей было стыдно, что ее видят вместе с этим ужасненьким сыном портного-тряпичника, с этим захватанным грязью и растрепанным иудейским Квазимодо; а потом они зашли в бистро, где ей вновь пришлось стыдиться за него, потому что он залился пивом, которое она ему поставила, засвинячив всю свою сопливую рожу, шею и драный свитерок, когда же она приказала ему вытереться носовым платком, он широко открыл в изумлении свои глаза и прошептал:
- Excusez moi, pardon... виноват... у меня нет носового платка.
И все это время он лепетал - Чайка это подчеркивает именно л е п е т а л, будто в горячке, на своем странном белорусском волапюке о детской любви к Рифке - дочке пекаря в родной дыре, и о тоске по ее запаху, и о ненависти к тому ее отцу, который ненавидел сына тряпичника за его бедность и любовь к рисованию:
- Она... она... Рифка дочь unsere Dorf. Ах, comme elle est belle! Глаза у ней как... сливы, чудесные... не совсем круглые... ей отец имеет пекарник, il fait du pain... она же помагать нет, ох, как она пахнет... лучше всех на свете!... Как у менйя будет денги ersten Geld... Vous saves... munes - ich schicke von hier, von Paris, drei Paar seidene Strumpfe... шолковыйе... настоящие шолковые... Она воняет... как вам ето сказать meilleurs parfums du monde... хлебом... - Рифка я тибя люблю. Панимаите, што я ей сказал?... отец? Ее отец запретил ей даже думать обо мне. Мне даже стыдно об этом тебе рассказывать... Он бил ее своими подтяжками... Шмондрак, - говорил он, - сукин сын, - говорил, самый большой шнорер, - говорил, - un хочет жениться с моей Рифочкой? С дочкой самого известного и уважаемого пекаря? Его родной отец говорил: старик Сутин стыдится своего бестолкового сына - а я должен отдать ему Рифку? Un не способен заработать на немножко луковиц... Un не способен заработать на буханку хлеба - un не желает работать - un не способен на самый малый гешефт... pacyker!... un удумал