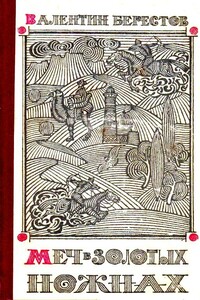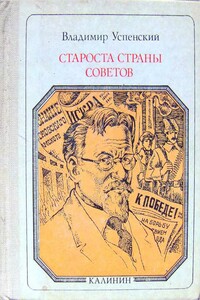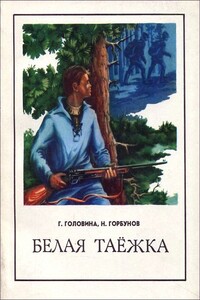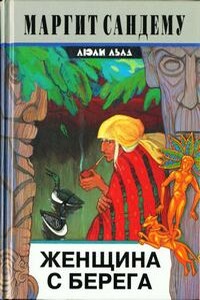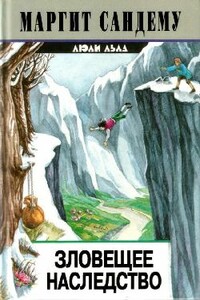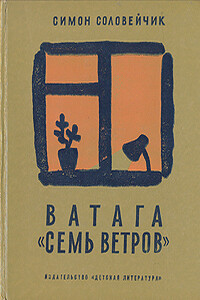Вчера в газетном киоске около Ярославского вокзала я увидел за стеклом толстую тетрадь в дерматиновой обложке рыжеватого цвета, и мне показалось, что когда-то я держал ее в руках. Я спросил тетрадь. Киоскер механическим движением выбросил ее на прилавок, поверх запорошенных снегом утренних газет. Я распрямил свернувшуюся на холоде обложку, потрогал шероховатые листы. Точно такая же тетрадь была у Сергея. С такой же обложкой и бумагой. Однажды она ненадолго попала ко мне — всего на одну ночь.
Я заплатил за тетрадь, положил ее в портфель и унес домой. Сейчас, поздно ночью, я сижу за столом в коридоре нашего общежития (в комнатах свет выключают ровно в двенадцать, общим рубильником), листаю чистую тетрадь, и она кажется мне исписанной. Как тогда.
Иногда я думаю, что жизнь человека сплавляется из нескольких близких ему жизней. Во всяком случае, Сережка входит в состав того существа, которое я называю «я». Слишком много он значил в моей жизни. Слишком часто я о нем думаю.
Но вот что выяснилось. Оказывается, очень трудно думать о Сергее. Я волнуюсь, и мысль не движется, а расплывается бесформенным теплым пятном. Я перебираю встречу за встречей, день за днем, стараюсь обдумать то один случай, то другой, привести их в систему; но каждый раз системы не получается. Вместо того я вижу перед собой Сережку. Он проводит тыльной стороной ладони по лбу, снизу вверх, слегка опуская при этом движении голову, потом внимательно смотрит мне прямо в глаза и говорит: «Все не так, Саня, все и сложней, и проще…»
Тогда я решил взяться за бумагу — в надежде на ее дисциплинирующие свойства. Решил написать про Сережку. Долго откладывал я это предприятие, не вполне ясно представляя себе его цель. А тут попалась эта рыжая тетрадь в привокзальном киоске. Она словно сама пришла ко мне, словно подталкивает меня, заставляет…
Начну.
От необходимости решать, с чего же я начну, я избавлен. Это само собой разумеется. Первая же встреча с Сережкой была настолько необычной, даже неправдоподобной, что опустить ее нельзя. Мне до сих пор не верится, что героями этих событий были всего-навсего двенадцатилетние мальчишки — хотя, с другой стороны, только в двенадцать, наверно, и может произойти такое. Впрочем, когда человек смотрит на свою жизнь изнутри самого себя, ему кажется, что он всегда был взрослым — и в двенадцать, и в семь, и даже в пять. Мы все взрослые с той самой минуты, как начинаем помнить себя и судить о других людях. И, честно говоря, я не чувствую принципиальной разницы между тем двенадцатилетиим Саней Полыхой, о котором сейчас пойдет речь, и нынешним студентом Александром Полыхиным, который пишет эти записки. В общем-то, это один человек.
Я и сейчас люблю поспать, а тогда, в двенадцать лет, необходимость просыпаться и тем более вставать была для меня самом отвратительной из обязанностей. Поэтому я никак не могу объяснить, отчего я проснулся в то утро еще до рассвета, какая сила подняла меня как раз в тот момент, когда Сережка достал из тумбочки рубашку, натянул ее на себя и вытащил серый свитер.
Это было в пионерском лагере железнодорожников. Мы только что приехали, прошло всего пять-шесть дней, и Сережка ничем не выделялся для меня из числа других. Ну, есть в нашем отряде некто Сережка Разин. В строю стоит четвертым. Не задирается, в председатели не лезет, в футбол и баскетбол играет так себе, плавает довольно прилично, но не лучше других. Вот и все. Не помню, перекинулись ли мы хоть словом, и не думаю, чтоб Сережка мог сказать обо мне хотя бы то, что я мог сказать о нем.
В лагерях мне всегда приходилось трудно. Психологи назвали бы меня «неконтактным» подростком. Я не умел сходиться со сверстниками: был застенчив, в разговорах терялся; если меня задирали — отпора дать не мог, молча переживал обиду и старался быстрее уйти в сторону. Наверно, поэтому я всегда был особенно благодарен тем, кто относился ко мне дружелюбно. Но что-то не часто встречались мне в детстве такие люди, и оттого я склонен был к каждому относиться настороженно. Особенно в лагерях. В школе мои позиции были прочнее.
Когда Сережка, одевшись, вылез из окна нашей большой спальни, я, наверно, должен был притвориться спящим. Это было бы естественным поведением для меня. Но постоянная и сложная борьба за свою безопасность вырабатывает почти абсолютное чутье на людей, и это чутье подсказывало: Разина можно не опасаться… Любопытство сделало меня смелым.
Как бы там ни было, я тоже тихонько встал и пробрался к окну. Оно выходило на плоский бетонный козырек, нависавший над входом в корпус. Сережки за окном уже не было. Он спрыгнул вниз — со второго этажа!
Мне захотелось вернуться в спальню. Но в следующее мгновение я стоял у самого края холодной бетонной плиты и тоскливо смотрел вниз. Я знаю: я никогда бы не прыгнул, если бы Сережка не оглянулся и не заметил меня. Он поднял голову и молча, с удивлением смотрел. Деваться было некуда. Я сел на корточки, потом лег на плиту и стал сползать вниз, обдирая живот о шершавым бетон, и не прыгнул, а плюхнулся вниз.
И остался жив.