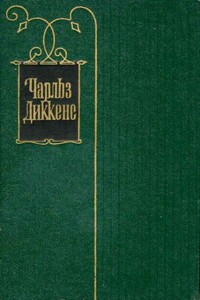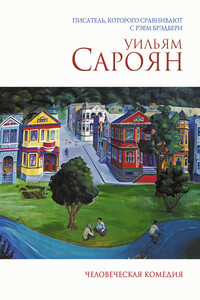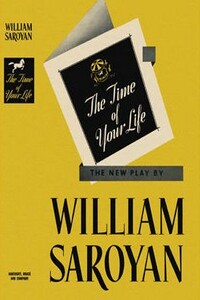Тяжело писать роман, когда у тебя изношены ботинки. Ведь это обстоятельство отражается не только на кровообращении писателя, но и на его стиле. Пара добротных ботинок устанавливает желательное равновесие между писателем и окружающим миром.
И тот факт, что единственная моя пара ботинок пришла в негодность от долгого хождения и находится на грани полного развала, очень удручает меня: прохудились обе подметки, и я хожу почти босой, а в центре города, куда ни ступишь, тлеют окурки, вот и приходится передвигаться вприпрыжку. Как и в церкви, я не смею сидеть, закинув ногу на ногу. Вот такую цену я плачу (и плачу с радостью) за честь быть великим, хоть и непризнанным писателем.
Роман, который я сочиняю, продвигается медленно, по абзацу в день, иногда по одному предложению, а нередко и по одному слову. Вчера этим словом было существительное «холод», что лучше всего соответствовало погоде на дворе. В оставшейся части абзаца я обращаюсь к рядовым читателям, которые не знают – им даже невдомек, – каким испытаниям подвергается изо дня в день честный писатель. Я обращаюсь к вам, дамы и господа, и к вам, мои кузены: кому-то моя дневная выработка может показаться мизерной. Но я готов терпеливо и обстоятельно объяснять дамам и господам и поклясться своим кузенам: я горжусь тем ворохом дрянной писанины, которой у меня хватило мастерства не написать. И я все больше убеждаюсь в своей правоте, ведь я сочиняю уже десять лет, а на моей совести – ни одного плохого романа. Все-таки жаль, что не придумали такой премии для писателей, которым удается воздерживаться от соблазна подарить миру еще одну негодную книгу.
Как мне удалось добиться таких успехов?
Ну, это довольно просто.
До тех пор, пока во мне нет уверенности, что написанное мною будет бесподобно, я не пишу вовсе. Я прогуливаюсь.
При таком методе пара хороших ботинок предпочтительнее пишущей машинки, а еще лучше – две пары.
Так что прогулки занимают очень важное место в моей жизни. Когда я шагаю на своих двоих, гордыня, тщеславие и всякие завиральные идеи отстают от меня, как шелуха, и я смиренно взираю на мир ясными глазами искусства, правды и разума.
Во время сегодняшней утренней прогулки у меня были вполне определенные и обещавшие доставить удовольствие планы. Я собирался зайти в сапожную мастерскую и отдать в починку свои почти развалившиеся башмаки.
В первой мастерской я узнал, к своему удивлению, что ремонт обойдется мне в один доллар семьдесят центов, плюс десять центов за то, чтобы прострочить ботинки (но ведь я занял у своего шурина Джо всего полтора доллара).
– Я зайду вечером, – сказал я. – А сейчас я на работу опаздываю.
В других мастерских цена оказалась приблизительно такой же, где-то чуть дороже, где-то дешевле В довершение ко всему я с утра не курил, а хотелось ужасно.
Наконец я набрел на мастерскую, в которой, судя по объявлению, был приемлемый прейскурант: шестьдесят пять центов за подметки, тридцать пять – за каблуки и, как сказал приемщик, двадцать пять центов за латание дыр, которых было аж целых пять. Итого один доллар с четвертью. Остального хватило бы на пачку сигарет и семьдесят листов писчей бумаги от Вулворта.
Преисполненный благодарности, я стал разуваться.
– Эти льготные расценки действуют, если вы оставите свою обувь на двадцать четыре часа, – сообщил приемщик. – За работу в присутствии заказчика взимается дополнительная плата.
– А во сколько обойдется срочная починка?
– Один доллар шестьдесят центов, – был ответ.
Я надел ботинки и сказал, что зайду попозже. Протопал пять миль до дому и попытался надеть ботинки шурина, эти были и вовсе на выброс, в еще более плачевном состоянии, чем мои. И хотя мне в них было неудобно, я был преисполнен решимости носить их, пока не будут готовы мои собственные.
Я пошел обратно в мастерскую. Приемщик возвестил мне, что свои ботинки я смогу получить завтра в это же время. И протянул клочок бумаги с моей фамилией.
– Когда платить, сегодня или завтра? – спросил я.
– Завтра, – ответил приемщик.
Было уже два часа дня, и поскольку я еще не курил, то купил пачку сигарет, выкурил одну, другую, третью… через полчаса мои пальцы на правой руке, большой и указательный, закоптились и я обжег уголки рта.
Передвигаться в ботинках Джо было трудновато, и я пошел в публичную библиотеку, посидеть. Взял «Письма Чехова», принес в большой читальный зал, как вдруг за стол прямо напротив села хорошенькая девушка, и письма тут же вылетели у меня из головы. Я прочитал за час сорок страниц, не понимая ни единого слова.
Когда девушка встала, собираясь уходить, я вспомнил, что глоток свежего воздуха не повредит и мне. В вестибюле она открыла сумочку, и из нее выпал листок бумаги, я быстро подхватил его и протянул ей. На бумажке было написано: «Две банки томатного соуса, два куска мыла, коробок спичек».
– Вы нездешняя? – спросил я.
– Нет, – ответила она, – я родилась в Сан-Франциско.
– А я нездешний, – сказал я.
– О-о, – произнесла она. – А откуда вы?
– Из России. Я всего четыре года как приехал сюда. Жил в Нью-Йорке.
– Вы хорошо говорите по-английски, – сказала она.
– Мой отец был англичанин. Он работал в Москве механиком. Мать была полька. А вы испанка?