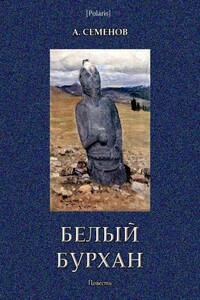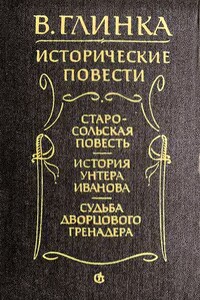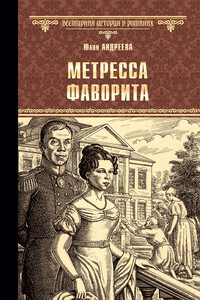Утро подступало к городу.
В ночь был большой снегопад. Над побелевшими пустынными улицами низко бежали лохматые тучи. Ветер, тонко присвистывая, гнал вдоль заборов снежную пыль. Монотонно пробили часы на думской башне. Далеким эхом откликнулись с окраин хриплые гудки лесопилок.
Укутанная до глаз баба проковыляла к водоразборной будке, таща за собой санки с привязанным к ним зеленым ушатом. В конце Поморской, на базарной площади, зачернели возы. От гостиницы «Золотой якорь» протрусила понурая извозчичья лошаденка. Замелькали в окнах желтые пятна огней. Заскрипели пристывшие за ночь калитки. Заспанный водовоз ухнул, въезжая в ворота, деревянным ковшом в звонкое дно обледенелой сорокаведерной бадьи.
Илюша услышал басовитый гуд бадьи и проснулся. В окно глядело хмурое зимнее утро. В комнате было холодно. Тряпка, затыкавшая узкую горловину душника, заиндевела. В голове ещё мелькали обрывки путаных ночных сновидений. Илюша прикрыл глаза и натянул на голову одеяло. Под боком завозился девятилетний Данька. Недовольно ворча, Илюша отодвинулся к краю постели и снова открыл глаза. Пора было вставать, иначе он рисковал опоздать в гимназию.
Но вставать не хотелось. Илюша, должно быть, устал. Он устал, и ему надоело бегать из одного конца города в другой и вколачивать латинские исключения и Эвклидовы аксиомы в дубовые головы купеческих сынков. Он едва успевает вернуться из гимназии и наскоро пообедать, как уже надо бежать на урок. Ему осточертела и эта вечная беготня, и эта вечная нужда. Он готовит уроки Жоли Штекера, Ваньки Селезнева, Шурки Казанцева, а свои едва успевает наспех просмотреть.
Вот и нынче, только садясь за утренний чай, он удосужился раскрыть латинскую грамматику Михайловского, чтобы подучить заданный урок. Мать протянула стакан чаю. Стакан тихо звенел на блюдце. Рука, державшая его, дрожала. Суставы пальцев заметно припухли. Илюша взял стакан из рук матери и, нахмурясь, кивнул на припухшие пальцы:
— Опять большая стирка?
Софья Моисеевна долила чайник и поставила его на конфорку тусклого, помятого в боках самовара.
— Ну-ну, — сказала она примирительно, — всё уже давно кончено, о чем тут говорить.
Илюша уткнулся в грамматику. Крутые дуги темных бровей сошлись у переносицы. Софья Моисеевна сунула руки под фартук. Звонко, на всю комнату чихнул в постели Данька. Илюша поднял голову, только сейчас заметив, что брата нет за столом.
— Почему Данька не встает? Он опоздает в школу.
Софья Моисеевна, словно не слыша Илюшиных слов, озабоченно наморщила лоб:
— Он уже чихает. Этого ещё не хватало.
Илюша посмотрел на Даньку. Данька спрятал голову под одеяло. Илюша встал из-за стола, торопливо собрал книжки и надел серую, с выцветшими лацканами шинель. Данька высунул из-под одеяла голову с растрепанными, свалявшимися волосами и плутовски подмигнул брату. Илюша повернулся к матери:
— Ты говоришь, он болен? А по-моему, он просто притворяется.
Софья Моисеевна подошла к Данькиной постели и заботливо поправила сползающее одеяло.
— Всё равно ему не в чем идти в школу.
Она нагнулась и подняла с полу Данькин башмак. Он выглядел маленьким сморщенным зверенышем. Белым оскалом торчали обнажившиеся деревянные шпильки. Илюша посмотрел на разверстую башмачную пасть и досадливо поморщился. Софья Моисеевна опустила башмак на пол.
— Вчера я ходила за рыбой к Тороповой, так она просила, чтобы с дочкой заниматься. Как ты думаешь?
Илюша запахнул шинель.
— Торопова?
— Да, у нее двойка по математике.
— А-а… По математике.
Илюша Медленно застегивал одну за другой потускневшие пуговицы шинели. Из-под локтя выпала на пол физика Краевича, и несколько истертых по краям листочков разлетелось по комнате. Книга, под стать всему остальному в доме, была ветха. Илюша нагнулся, поспешно собрал листки и пошел к двери.
Софья Моисеевна подошла к окну. Илюша обернулся на пороге:
— Насчет этой Тороповой можно сговориться, мама. Селезневы отказываются с первого числа.
Он дернул кухонную дверь, потом другую, в темные холодные сени, и выскочил на двор.
«Тороповы, — соображал он на бегу, зябко поводя плечами. — Тороповы… рыбники… тузы… доченька, верно, бревно бревном и в гимназии — до первого жениха…»
Калитка всхлипнула на ржавых петлях. Обледенелая веревка, перекинутая через косяк, с визгом потянула вверх привязанный к ней кирпич. За окном качнулась тусклая тень. Это была Софья Моисеевна. Стоя в комнате, она увидела сквозь мутное со снежным бельмом окно, как медленно упал вниз кирпич, как пробежали вдоль открытой подворотни проворные ноги…
— Боже мой, — вздохнула она, — на улице такой мороз, а у него нет галош…