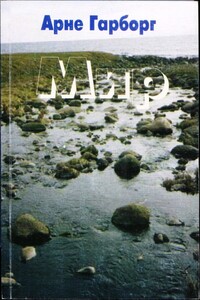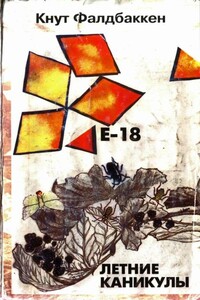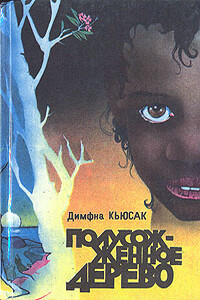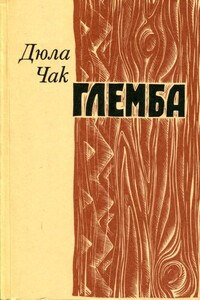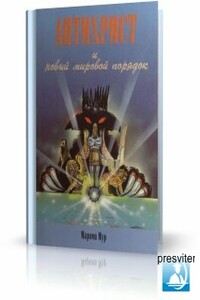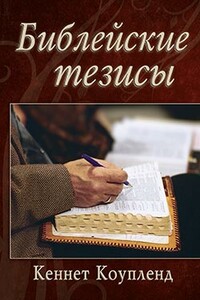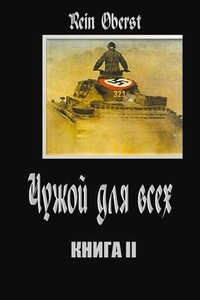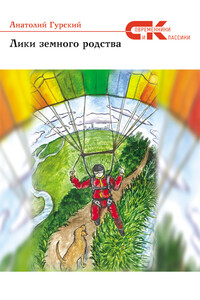Там, на западе, море набегает на низкий песчаный берег, растянувшийся на семь миль[1].
Это море, само Северное море, широкое и свободное, безраздельное и бездонное, нет ему конца. Тёмно-зелёное, оно катит с запада бесчисленные волны, гонимые бурями с Северного Ледовитого океана и Ла-Манша, выносит своих белогривых коней прибоя из морского тумана, и пенистая волна замирает, завывая глубокой органной мелодией вечности из сокрытой бездны. Волна выплёскивается на берег, и белый поток разбивается вдребезги с плеском, шумом и долгим раскатом, угасая в глухом рокоте.
От длинного низкого песчаного побережья тянется скудная, серая земля с коричневатыми холмами, покрытыми вереском, и бледными болотами. Голая, без единого деревца, она усыпана огромными камнями и огорожена с востока длинной невысокой горной цепью. Обнажённая равнина кажется бесконечной. Однако то здесь, то там синеет одинокое болотце, недвижное и зарастающее тиной, или большое, спокойное озеро. День и ночь здесь шумит ветер. Серая мгла царит над пустошью, где заяц скачет от камня к камню и дикие птицы, коричневые с пятнышками, сидят в потаённых гнёздах и сонно моргают.
Над всем этим протянулось широкое и серое небо, от горной цепи до моря и дальше до самого горизонта, — лишь оно освещает всё вокруг, и каждый путник видит его свет. Почти всегда оно заполнено облаками и ветрами. Иногда небо опускается на землю и, словно покрывалом, окутывает равнину дождём и туманом. И тогда с неба льёт не переставая, и вся земля превращается в сплошной поток.
Кое-где на холмах и возвышенностях низенькие домики сбиваются в кучи, как будто в поисках укрытия. Они наполовину спрятаны в тяжёлом воздухе, окутанные, как во сне, торфяным дымом и туманом с моря; безмолвные и неприступные, похожие на жилища троллей, они разбросаны вдоль плоскогорья. Около домов едва проглядывают бледно-зелёные пятна полей и лугов, словно острова в вересковом море; каждое пастбище и участок земли заперты и обложены каменной изгородью, похожей на длинные руины.
В этих домах живут люди.
Это крепкий, суровый народ, чья жизнь полна тяжких раздумий и изнурительного труда, народ, который трудится на земле и изучает писания, пытаясь взрастить урожай в песке и взлелеять надежду в сновидениях, веря во власть скиллинга[2] и утешаясь мыслями о Боге.
Прохладный и тихий, царил над землёй и морем осенний день. Вечерело.
Небо окуталось серым, солнце скрылось на западе за туманным холмом. Всюду неподвижно висели и дремали длинные полосатые облака.
Днём было ветрено, однако к вечеру, как это часто бывало, ветер стих. Тишина стояла такая, что всякий мог услышать собственное дыхание.
Сумрак спустился, синий и холодный. Острый шум речек и ручейков прорезал воздух. Высоко над полями летели, направляясь к западу, две большие чёрные птицы. Далеко на северо-востоке куковала кукушка, и эхо гоготало, словно адская лошадь.
Энок Хове, с грохотом спускавшийся вниз по склону горы в своей тележке, вздрогнул. Этот дьявольский хохот в вечерней тишине пугал его. «Н-но, родимая!» Лучше всего уехать отсюда поскорей: до дома ещё оставался приличный отрезок пути. Энок пребывал в глубоких раздумьях, и коричневатое от загара лицо его с опущенными глазами выглядело недовольным, беспокойным и опечаленным. Когда же он думает начать воспринимать жизнь всерьёз? Долго ли ещё собирается он скитаться по земле рабом греха — и никогда не обрести мира? Он ведь не продавал душу дьяволу на всю жизнь? — как выразился Ларс Нордбраут во время последней проповеди. Да, «на всю жизнь»… «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя»…[3] Чем тогда воспользуется Энок из того немногого, что удалось ему накопить?
А ведь он не «накопил» почти ничего. Всё было как назло. Наследство, доставшееся Анне, потрачено на покупку нового участка целины, и пока они заплатили лишь половину. Земля скудная, и потому придётся долго ждать, пока появятся остальные деньги. Хорошо ещё, что остались старые серебряные украшения и золотые кольца. «Пока в доме есть серебро, ты не можешь назвать себя нищим», — говаривал отец Энока. Но теперь Энок должен был кругом: торговцу за товары, Симону Рамстаду за корову, батраку Хансу нужны были деньги на рыбалку, а налоги росли и росли… Того, что удалось приобрести раньше, осталось немного, а то, в чём нуждались сейчас, было безумно дорого. Куда ни глянь — кругом такая нужда и стеснённость, что впору опустить руки. А дети растут, им нужна обувка и одёжка…
Благословение! — вот чего недоставало в жизни. Всё казалось бессмысленным, если Бог не был рядом. А прислуживать дьяволу, пусть даже изредка, не стоило…
О нет, нет!
Тот, кто мог подняться над собой и стать дитём Божьим, тот мог чувствовать себя увереннее и в повседневных делах. Мог бы переложить свои заботы на плечи Господу, тому, кто беспокоится обо всех, даже о малых воронятах. Ибо в пояснениях к Катехизису[4] сказано: «О ком Бог печётся прежде всего? О своих верующих детях». И там же: «Есть ли какая-либо выгода в том, чтобы любить Господа? Да, огромная выгода; ибо мы ведаем, что всем любящим Господа воздастся добром». Подумать только: ты можешь положиться на самого Господа Бога. Да, избавиться от всех забот, обрести мир взамен всех твоих страхов и беспокойства… Никогда ещё в жизни у Энока не было такого счастливого дня. Он сам не мог понять, отчего в нём царил разлад, как узел на груди, который невозможно было распутать. Он всегда жил с предчувствием, будто собирался сделать что-то худое, словно он чего-то должен опасаться заранее. Никогда он не был уверен в себе, никогда не мог почувствовать себя спокойно, тем более в собственной комнате. Даже если он и мог быть доволен собой в какой-то миг — пребывая в радужном настроении или принимаясь за новую работу, — всё же беспокойство сидело внутри и терзало его, и оттого радость казалась поверхностной и никчёмной. Он беспрерывно метался туда-сюда в бешеной погоне; всё новое на мгновение заглушало его тоску, но это был лишь короткий миг, а потом им снова овладевало беспокойство, и всё шло по-прежнему. О да, чего же ещё он ждал? С тем, кто лишён Бога и мира, всегда так. Нечего удивляться, что он пребывал в таком беспокойстве, ведь с каждой минутой он только ближе и ближе подходил к адской бездне…