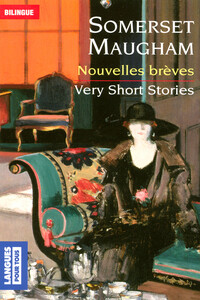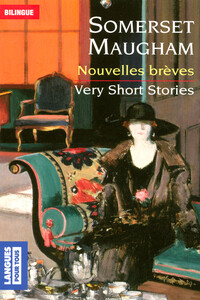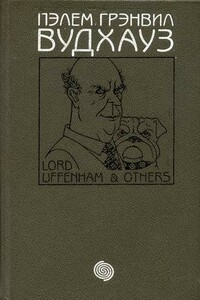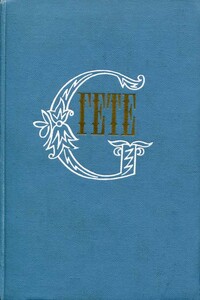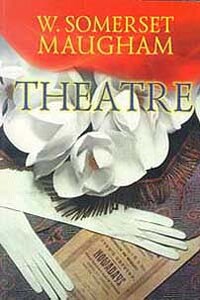Жизнь большинства людей определяется их окружением. Обстоятельства, в которые их ставит судьба, они принимают не только с покорностью, но даже радостно. Они похожи на трамваи, самодовольно бегущие по своим рельсам и презирающие веселый маленький спортивный автомобиль, который мчится куда захочет, не признавая дорог. Я уважаю таких людей: это хорошие граждане, хорошие мужья и отцы, и кроме того, должен же кто-то платить налоги; но они меня не волнуют. Куда больше интересуют меня те люди — честно говоря, их довольно мало, — которые, так сказать, берут жизнь в руки и творят ее по своему вкусу. Может быть, нам не дана свобода действовать, как мы хотим, но иллюзия этой свободы не покидает нас никогда. На перепутье дорог кажется, что мы можем пойти и направо и налево, когда же выбор сделан, трудно увидеть, что весь ход мировой истории заставил нас повернуть туда, куда мы повернули.
Я никогда не встречал более интересного человека, чем Мэйхью. Это был способный и преуспевающий адвокат из Детройта. К тридцати пяти годам он имел большую и выгодную практику, добился независимого материального положения и стоял на пороге великолепной карьеры. Он был умен, честен, обладал приятным характером и, несомненно, должен был стать одним из видных финансовых или политических деятелей своей страны.
Как-то вечером он сидел у себя в клубе с друзьями; они немного выпили. Один из них, только что побывавший в Италии, рассказывал о доме, который он видел на Капри, — это был дом в большом тенистом саду на холме над Неаполитанским заливом. Выслушав описание красот самого красивого острова Средиземноморья, Мэйхью сказал:
— Звучит превосходно. А этот дом продается?
— В Италии все продается.
— Надо его купить, пошлем им телеграмму.
— А что, скажи на милость, ты будешь делать с домом на Капри?
— Буду жить в нем, — сказал Мэйхью.
Он послал за телеграфным бланком, заполнил его и отправил. Через несколько часов пришел ответ. Предложение было принято.
Мэйхью не был лицемером и не скрывал, что в более трезвом состоянии он никогда не совершил бы такого безумного поступка, но, протрезвившись, он не жалел об этом. Он не отличался ни импульсивностью, ни эмоциональностью, но был очень честным и искренним человеком. Он никогда не стал бы продолжать браваду, если бы счел ее бессмысленной. А сейчас Мэйхью не видел нужды менять принятое решение. Он был равнодушен к богатству, но имел достаточно средств, чтобы жить в Италии. Ему пришло в голову, что, может быть, и не стоит тратить жизнь на улаживание мелких дрязг незначительных людей. Никакого определенного плана у него не было. Просто ему захотелось уйти от привычной жизни, потерявшей для него всякий интерес. Друзья, вероятно, решили, что он спятил, некоторые, я думаю, не жалели сил, чтобы отговорить его. Он привел в порядок дела, упаковал мебель и уехал.
Капри — это суровая скала строгих очертаний, купающаяся в темно-синем море, но живая зелень виноградников украшает ее и смягчает ее суровость. И то, что Мэйхью обосновался на этом прекрасном далеком острове, приветливом и жизнерадостном, было довольно странно, ибо я не встречал человека, более равнодушного к красоте. Не знаю, чего он искал там — счастья, свободы или просто праздности, — но знаю, что он нашел. В этом месте, столь неодолимо притягательном для чувств, он жил лишь духовной жизнью. Дело в том, что остров имеет богатую историю и над ним вечно витает загадочная тень императора Тиберия. Из своих окон, выходивших на Неаполитанский залив, Мэйхью видел благородный Везувий, меняющий цвет с переменой освещения, и сотни мест, которые напоминали о римлянах и греках. Прошлое стало преследовать его. Все, что он видел здесь — впервые, ибо он никогда раньше не бывал за границей, — будило его фантазию и творческое воображение. Мэйхью был человеком действия. Вскоре он решил заняться историей. Некоторое время он выбирал себе тему и наконец остановился на втором столетии Римской империи. Оно было мало изучено и, как ему казалось, выдвигало проблемы, сходные с современными.
Он начал собирать книги и уже вскоре стал обладателем огромной библиотеки. За годы своей адвокатской деятельности он научился читать быстро. Он принялся за дело. Вначале он часто проводил вечера в обществе художников и писателей в маленькой таверне на площади, но теперь он отдалился от них, увлеченный работой. Он успел полюбить купание в этом ласковом море и далекие прогулки по роскошным виноградникам, но мало-помалу, жалея время, отказался и от прогулок и от моря. Он работал больше и усерднее, чем когда-либо в Детройте. Он начинал в полдень и работал весь день и всю ночь напролет, пока гудок парохода, каждое утро отплывавшего с Капри в Неаполь, не давал ему знать, что уже пять часов и пора ложиться. Тема раскрывалась перед ним во всей своей необъятности и значительности, и он представлял себе труд, который поставит его рядом с великими историками прошлого. Постепенно он стал все реже встречаться с людьми. Его можно было вытащить из дома, только соблазнив партией в шахматы или возможностью с кем-нибудь поспорить. Его увлекали поединки интеллектов. Он был теперь широко начитанным человеком, и не только в области истории, но также и в философии; он был искусный полемист и обладал быстрым, логичным и язвительным умом. Но он был добродушен и наделен чувством юмора, и хотя победа доставляла ему вполне понятное удовольствие, он не радовался вашему поражению.