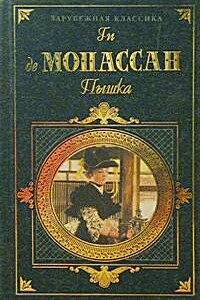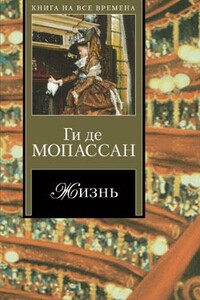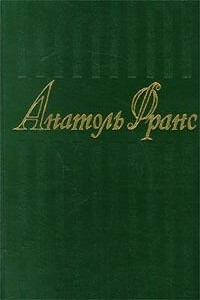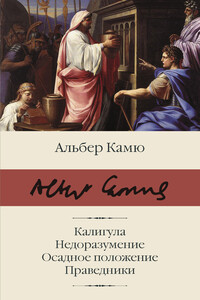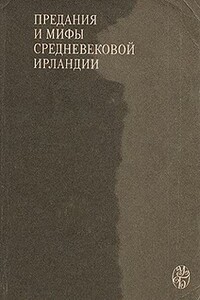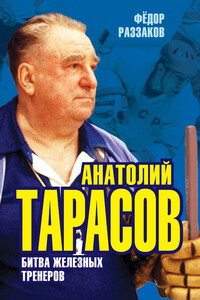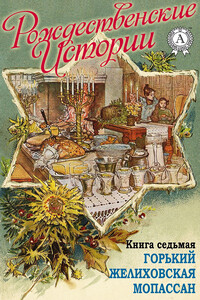— Великие несчастья не печалят меня, — сказал Жан Бридель, старый холостяк, слывший скептиком. — Войну я видел воочию — я шагал по трупам и не чувствовал жалости. Жестокости природы и людей могут исторгать у нас крики ужаса и негодования, но от них не сжимается сердце, они не вызывают у нас дрожи, как иные мучительные мелочи.
Конечно, для матери самая страшная скорбь, какую она может испытать, — это смерть ребенка, а для мужчины — смерть матери. Это горе жгучее, ужасное, оно потрясает, оно терзает душу, но от подобных несчастий человек оправляется так же, как и от тяжелых кровоточащих ран. Но бывают встречи, бывают еле уловимые, скорее угадываемые оттенки, тайные печали, превратности судьбы, которые неожиданно дают нам заглянуть в таинственный мир нравственных страданий, сложных, неисцелимых; страдания эти тем глубже, чем они кажутся безобиднее, тем острее, чем они кажутся неуловимее, тем упорнее, чем кажутся поверхностнее; они оставляют в нашей душе скорбный след, вкус горечи, чувство разочарования, от которого мы долго не можем освободиться.
Мне постоянно вспоминаются два-три таких случая, на которые другой, наверное, не обратил бы внимания, но они до сих пор живут в моей памяти, причиняя мне боль, как глубокие, неизлечимые ранки.
Вы не поймете, пожалуй, того чувства, которое осталось у меня от этих мимолетных впечатлений. Расскажу вам только об одном из них. Оно относится к давним временам, но сохраняет всю свою свежесть, словно это было вчера. Возможно, что мое умиление вызвано только игрой фантазии.
Теперь мне пятьдесят лет. А в то время я был молод и изучал право. Всегда немного грустный, склонный к мечтательности, проникнутый меланхолической философией, я не любил шумных кафе, крикливых товарищей, глупых девиц. Вставал я рано, и величайшим наслаждением была для меня прогулка в одиночестве в восемь часов утра по садоводству Люксембургского сада.
Никто из вас, верно, не помнит этого садоводства? Это был словно заброшенный, оставшийся от прошлого века сад, сад очаровательный, как кроткая старческая улыбка. Густая живая изгородь разделяла узкие и правильные аллеи, тихие аллеи, тянувшиеся между двух стен аккуратно подстриженных кустов. Большие ножницы садовника без устали подравнивали эти зеленые перегородки; а местами вы видели цветники, обсаженные маленькими деревцами, выстроившимися, точно школьники на прогулке, купы чудесных роз или вереницы фруктовых деревьев.
Целый уголок этой прелестной рощи принадлежал пчелам. Искусно были расставлены на досках их соломенные ульи, дверцы которых, величиной с наперсток, открывались навстречу лучам солнца, и, когда вы шли по дорожкам, вам всюду попадались жужжащие золотистые пчелы, настоящие хозяева этого мирного приюта, по безмятежным аллеям которого, напоминавшим коридоры, они привыкли сновать.
Я приходил туда почти каждое утро. Я садился на скамейку и читал. Иногда я опускал книгу на колени, чтобы помечтать, прислушиваясь к шумам Парижа, жизнь которого кипела вокруг меня, и насладиться бесконечным покоем этих старинных грабовых аллей.
Но вскоре я заметил, что не я один прихожу сюда, как только открывается сад: порою, на повороте какой-нибудь дорожки, я сталкивался лицом к лицу с маленьким странным старичком.
Он носил башмаки с серебряными пряжками, панталоны с бантами, сюртук табачного цвета, кружева вместо галстука и невообразимую допотопную серую шляпу с широкими полями и с длинным ворсом.
Он был худ, очень худ, угловат, гримасничал и улыбался. Его быстрые глазки бегали по сторонам, часто моргая, а в руках у него всегда была великолепная трость с золотым набалдашником, с которой у него, по-видимому, было связано какое-то чудесное воспоминание.
Сперва этот человечек удивил меня, потом чрезвычайно заинтересовал. И я стал наблюдать за ним издали сквозь листву, останавливаясь на поворотах дорожек, чтобы он меня не заметил.
И вот однажды, думая, что он один, человечек начал делать какие-то странные движения: сперва несколько маленьких прыжков, затем глубокий поклон; потом он проделал довольно ловкое антраша и с учтивым видом стал вертеться на своих тонких ножках, подскакивая, забавно суетясь, улыбаясь так, словно перед ним была публика; он изощрялся в грациозных позах, округлял руки, сгибал свое жалкое тело — тело марионетки, посылал в пустоту умилительные и смешные поклоны. Он танцевал!
Я стоял, оцепенев от изумления, спрашивая себя, кто из нас двоих сошел с ума — он или я?
Но вдруг он остановился, затем, как актер на сцене, шагнул вперед, поклонился и попятился, приветливо улыбаясь и дрожащей рукой посылая рядам подстриженных деревьев воздушные поцелуи, точно актриса.
И пошел дальше, степенно возобновив прерванную прогулку.
С этого дня я уже не терял его из виду, а он каждое утро повторял свои необычайные упражнения.
Мне безумно хотелось заговорить с ним. Однажды я отважился и, поклонившись ему, сказал:
— Сегодня отличная погода, сударь.
Он тоже поклонился.
— Да, сударь, погода совсем как встарь.
Неделю спустя мы были друзьями, и я узнал его историю. Он был танцмейстером в Опере во времена Людовика XV. Прекрасная трость была подарком графа Клермонского. А когда с ним заговаривали о танцах, он начинал болтать и уже не мог остановиться.