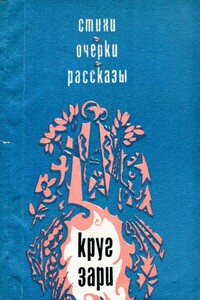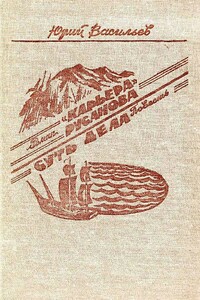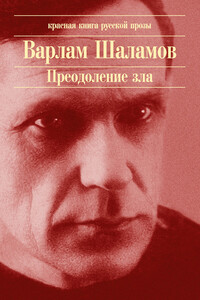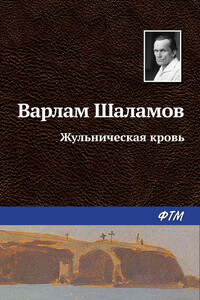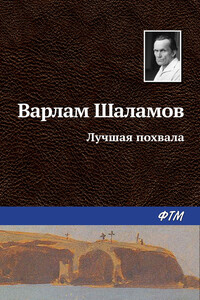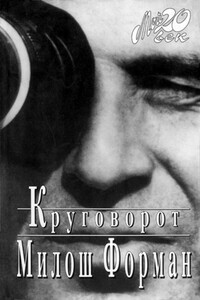Максим ГОРЕЦКИЙ
МЕЛАНХОЛИЯ
Повесть
Под тым же часом...человек мудрый и великого заховання у людей...ово не ведет, з чого впал в меланхолию, о всем собе зле тушачи, же мыслил о учинене якой смерти собе.
Т. Евлашевский
1
ГРУСТНЫЕ ПИСЬМА
Мой милый товарищ!
Ну вот, у нас уже поздняя, слегка опечаленная весна и начало жаркого лета. Кончились наконец практические занятия, и ты можешь поздравить меня: я закончил школу...
С каким нетерпением ждал я этой минуты! С какой радостью мечтал о ней, особенно два последних года. И вот, когда все это наконец-то пришло — какая-то безучастность, уныние и даже тоска овладели мной.
Что делать дальше? — невольно еще раз встает передо мной больной вопрос. Поступать в Московский межевой институт или на политехнику в Киеве, как мы когда-то с тобой договаривались, я теперь окончательно передумал. Не знаю, удастся ли, однако до сих пор я еще не потерял надежды изучить иностранные языки, получить аттестат зрелости и поступить на историко-филологический факультет. Я думаю, что нашему освободительному движению учителя и литераторы еще долго будут нужны — и более, чем землемеры и агрономы.
Я решил поработать годик на землемерной службе, подготовиться к этой самой «зрелости» и заработать немного денег, чтоб самому было с чем дальше идти в науку и немного помочь отцу непременно учить Лавриньку.
Я искал и нашел себе должность на Виленщине, потому что очень хочу, как ты сам знаешь и понимаешь, побыть в Вильне — в самом центре нашего освободительного движения,— а затем, на селе, познакомиться с жизнью нашего западно-белорусского крестьянина, которая для меня, да и для тебя, восточных белорусов, остается совершенно неизвестной.
В Темнолесье, даже на короткое время, я не поеду. Жалею времени. Отдохну и погуляю там, где буду работать.
Сегодня вечером навсегда распрощаюсь со своей школой и поеду на станцию. Всю ночь буду трястись в извозчичьей кибитке, потому что автобус, о котором столько было разговору, еще не ходит и в этом году...
Без сожаления покидаю этот несчастный глухой город, в котором проучился четыре долгих года и где у нас было столько стремлений, надежд и планов, тихих радостей, юной дружбы... Все это теперь — позади, и я вылетаю на новые широкие просторы...
Ну, прощай, мой дорогой! С дороги напишу еще.
30 июня 1913-го года.
Твои Лявон
Мой милый товарищ!
До этого я ни разу не был дальше М. и Г. и вот сегодня, впервые в своей жизни, увидел огромный вокзал, большущие паровозы, машинный мир, нескончаемый людской водоворот и всякую другую цивилизацию...
Увидел я также в первом классе тьму-тьмущую богатых путешествующих панов, пышный цвет российской панской культуры в Белоруссии, и рядом, только в противоположном конце здания, в третьем классе, увидел я Беларусь, нашу белорусскую мужицкую культуру, представители которой, словно несчастная, грязная и замученная скотина, валяются вповалку на полу — в лаптях, в лохмотьях, в рванье, с убогими котомками и с приглушенной, скрытой от чужого презрения речью на запекшихся губах.
Заныло, милый мой брат, сердце, вспомнил я тебя и наш школьный кружок, и захотелось мне бежать к вам, просить о помощи или же броситься здесь на стену и царапать ее руками... Вместо этого пишу тебе.
Как на беду, завел я за столом в буфете разговор с одним молодым человеком в новенькой студенческой фуражке и в новенькой студенческой тужурке с петличками и желтыми пуговками. Он тоже дожидался поезда на Вильню, жаловался, что ждать скучно, и первый, снисходительно, заговорил со мной. Он, видно, принял меня за учителя.
Не очень люблю я этих студентов-паничей, но, уловив в его речи белорусский акцент, решил, что немного просвещу его До этого я привык представлять себе студента передовым человеком, революционером — если не на деле, то хотя бы на словах. К сожалению, я нарвался на такого российского патриота, с либеральной фразеологией, и на такого врага белорусского языка, что все мои слова отлетели от него как горох от стенки.
И я решил ни с кем больше в дороге не заводить разговоров на белорусские темы. Буду ехать себе тихо и спокойно, сидя у окна, любоваться бедным родным краем и бесконечно тешишь себя надеждами на его возрождение...
1/VII.1913
Твой Л.
Товарищ мой и единомышленник, послушай ты меня с дороги!
Как любо, как приятно сидеть в вагоне у раскрытого окна в ясный, теплый, погожий день и ехать по Белоруссии. Не чувствует тело, что прижали его к самой стенке и что душно. Не чувствуют кости, что жестко сидеть и неудобно. Уши забываются и не слышат возле себя торговцев с их бесконечными разговорами о гешефте, денежной выгоде и всякой прочей дряни. Глаза не хотят ничего видеть в грязном вагоне, и не оторвать их от всего родного, что проплывает и проплывает мимо окна.
Поезд летит, и перед глазами открываются безбрежные поля с холмами, лощинами, канавами. Колышутся хлеба, и среди них мило синеют, нежатся васильки. Бежит это милое свежее поле далеко-далеко, к темному, низкому небу, лесу. Засверкала в зеленой постели речка — тихая, извилистая. Раскинулись сенокосы... С пригорка к реке сбегают хатки, выше на склоне одиноко присели гумна, а вдали среди зароблей ивняка, у самой воды пригнулась одинокая банька. Родник с кристальной водицей бежит по камушкам и гравию в неширокое жерло в срубе.