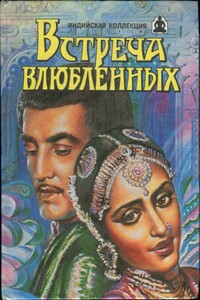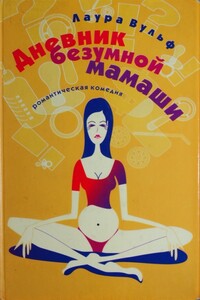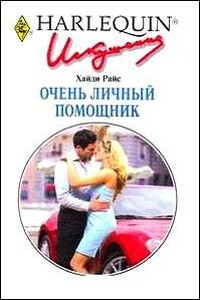РОМАН
Я родился в октябре. Почти все, сыгравшее для меня и всей моей жизни решающую роль, пришлось на этот месяц. В октябре 1928 года вышел в свет мой роман «Змеиная рубаха» на немецком языке. Это событие имело для меня особо важное значение, ибо книга эта является первым литературным произведением, представляющим европейскому читателю более чем 1500-летнюю грузинскую культуру. Само собой разумеется, что этим я не хочу сказать, будто это единственная книга, достойная быть переведенной на европейский язык. Но то, что это событие произвело на меня глубокое впечатление, надеюсь, будет правильно понято. Издательство выслало мне несколько экземпляров немецкого издания книги, и мне захотелось передать ее моей любимой родине, с которой она кровно связана, которой, собственно, и обязана своим появлением. Мне захотелось самому положить ее в руки моей седой матери, которую я давно не видел. И вот в один прекрасный день я собрался в путь и поехал в свою родную деревню.
Я прошу читателя взять карту Кавказа и отыскать на ней железную дорогу от Тифлиса до Батума. Это был маршрут моего путешествия. После восьмичасовой поездки я прибыл на маленькую станцию Свири. Здесь проходит граница между Верхней и Нижней Имерети. Европейскому читателю мне хотелось бы сказать еще следующее: в грузинском государстве живет несколько родственных племен. Это кахетинцы, карталинцы, имеретинцы, гурийцы, мегрелы, аджарцы, а также горные племена сванов, хевсуров, пшавов и тушин. Все они грузины и говорят на одном и том же грузинском языке за исключением сванов и мегрелов, говорящих на своих диалектах. Но и эти диалекты тоже являются разновидностями грузинского языка. А литературный и церковный язык сванов и мегрелов тот же, что и у других грузин.
Октябрьским вечером мой поезд прибыл на станцию Свири. Пожилой родственник встретил меня, и мы верхом отправились в нашу деревню.
Аромат родной земли пьянил. Воспоминания детства, подобно стаям птиц, закружили во мне и затем медленно исчезли. И вот что удивительно: казалось, будто все сколько-нибудь значительные мысли, занимающие меня в зрелую пору, были близки мне уже тогда, когда я ребенком бегал по этой земле. Оглядываясь назад, я воспринимал их как туманные образы, плывшие, словно прозрачные медузы, по безбрежной водной глади детского сознания. Возможно ли, чтобы подобные видения были прообразами доисторического сознания, которые дитя несет с собой из темных недр плодотворящей земли? Я боюсь потревожить то, что таится под туманным покровом Неизведанного.
Был тихий осенний вечер. Я упивался картиной родных полей. Вот уже появилась первая после станции сторожевая будка! Незабываемое переживание связано с ней. Мне тогда исполнилось восемнадцать лет, и я принял решение учиться в Германии. Отец проводил меня, но не дождался прибытия поезда. Он коротко попрощался и ушел. В его словах сквозила печаль, которую он скрывал с большим трудом. Ему было нелегко отправлять единственного сына в неведомые края. Но слез он не проливал. Я, конечно, понимал, что прощание у поезда было бы для него еще более тяжким испытанием. Это пыхтящее чудовище в буквальном смысле слова оторвало бы меня от отца. Отец безгранично любил меня, и я знал это, но он никогда не обнаруживал своих чувств. Я стоял смущенный и с грустью смотрел вслед удаляющейся фигуре. Отец ни разу не оглянулся. Наконец подошел поезд. Я поднялся в вагон и сразу открыл окно. Поезд тронулся. Я прощался с родными полями. А вот и первая железнодорожная будка, недалеко от которой, в двух-трех шагах от полотна дороги, я увидел человека, прислонившегося к стволу дерева. В следующее мгновение наши взгляды встретились. Жадными очами провожал он проносившийся мимо поезд, каждый вагон, людей, стоявших у окон: его взгляд искал кого-то, жаждал ответного взгляда. Это был мой отец. Я ощутил слезы в его глазах. Мне никогда не забыть этот взгляд, исполненный любви и тревоги. Почувствовал ли он, что я увидел его? Заметил ли он меня? Я не был в этом уверен. И позднее никогда не спрашивал отца об этом.
Сейчас, когда мы приблизились к сторожке, я заметил, что того деревца уже не было. Но мне все еще мерещился пронзительный взгляд, жадно поглощавший пространство. Моя лошадь споткнулась.
— Что с тобой? — спросил мой двоюродный брат.
— Да так, ничего… — ответил я уставшим голосом.
Мы перешли вброд реку Квирила и прошли еще с полмили. Вот и ореховое дерево. Оно немного постарело. Как часто я отдыхал в тени его густой кроны. Сколько грез посетило меня под его низко склоненными ветвями! Одно переживание ярче других светится в воспоминании. Мне было тогда шестнадцать лет. Я ехал верхом в соседнюю деревню. Недалеко от этого дерева я встретил пастушку со стадом овец и свиней. На фоне полуденного зноя она показалась мне чарующе красивой. Я был ослеплен. В то же мгновение я соскочил с лошади, привлек к себе перепуганную девушку и прижался к ее целомудренным устам, забыв обо всем на свете. Не помню, вскрикнула ли тогда девушка от испуга. Память моя сохранила лишь мой собственный крик, вырвавшийся из моей груди, словно рев одержимого похотью дикого зверя. Я тут же вскочил на свою лошадь. Словно заряд молнии, ей передался мой восторг, к которому теперь примешалась смутная тревога, — и я полетел. Это был мой первый поцелуй. Где теперь эта пастушка? Жива ли она? Может быть, она стала матерью, у нее, возможно, взрослые сыновья и дочери, и она, наверное, с улыбкой вспоминает иногда того озорного мальчишку, в мгновение ока сорвавшего с ее юных губ поцелуй, быть может, первый для нее?