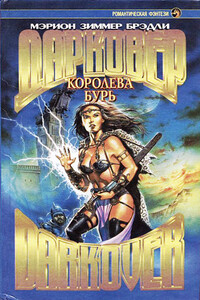(Письма из чужих краев).
На всемирной выставке нет ни одной картины Верещагина. И это заметили не только русские, но даже иностранцы. Один из лучших французских художественных критиков, Жюль Клареси, еще в мае писал в «Indépendance Belge»: «Признаюсь, я глубоко сожалею об отсутствии на выставке Василия Верещагина, живописца хивинской экспедиции, рисовальщика с изумительной энергией, правдой, живописностью, чьи азиатские типы, наверное, приводили в отчаяние нашего Бида, Верещагина — удивительного художника, обнимающего все роды живописи, пейзаж, историю, жанр. Его мастерская, в Мезон-Лаффитт, вся наполнена этюдами; он задумал теперь изобразить Индию с ее великолепиями, с ее изумительными сценами, с ее богатствами, с ее ночами-сновидениями. Я не знаю художника, который лучше его передал бы великолепие берегов Ганга. А его эпизоды войны! Что это за поэзия и что за правда! Очень жаль за Россию, что Верещагин не принял участия в выставке, но мы надеемся, что парижская публика получит в один прекрасный день возможность увидеть полное собрание произведений этого первоклассного художника».
Не чудо ли это совершается перед нашими глазами? Французы не только высоко ценят которого-то из наших художников, не только сравнивают его с знаменитейшими своими художниками, до сих пор, как известно, не доступными ни для какого сравнения и стоящими над всей остальной Европой, как Девалагири над маленькими пригорками, но еще ставят его, в иных отделах создания, выше всех своих и всех каких бы то ни было художников этого рода. Не чудо ли это, и когда что-нибудь подобное бывало прежде? Но нам тут нечего удивляться. Когда-нибудь должна же была притти и наша пора, и туман иностранного неведения должен же был однажды начать сниматься.
Но иностранцы, конечно, не могут знать ни положения наших дел, ни наших выдающихся личностей. Если б они знали, например, Верещагина, им бы ничего удивительного не было в том, что этот художник ни единого холста своего не выставил на всемирную выставку. Им неизвестно, что уже несколько лет тому назад он напечатал в наших газетах: «Всякие награды составляют вред для искусства» и отказался от почетного художественного титула; им неизвестно, что он мало доверяет суду целого сонма художников-жюри, выторговывающих друг у друга голоса и разные уступки с тем, чтобы потом зачастую вышло в результате награждение целой толпы посредственностей и оставление в тени иных крупных талантов, особенно если у них в произведениях есть новизна направления и смелый почин (пример: Курбе, которого систематически много лет просто так-таки и не допускали на выставки; а потом вся новейшая школа французских импрессионистов — о наших художниках я уже и не заикаюсь). Что же после того за охота итти на суд, который потом бог знает еще какой выйдет; что за охота и что за крайность! Не лучше ли ровно ни от кого не зависеть и, когда придет время, сделать свою собственную выставку и не ждать за нее никаких приговоров и наград, никаких повышений и понижений?
Иностранцы не могли, конечно, никоим образом воображать, что у нас художники начинают вот уже как думать и понимать свои права и обязанности, и оттого-то могли считать отсутствие Верещагина на всемирной выставке делом простой случайности или каприза. Мы, напротив, знаем факты, следовательно, соображаем совсем другое.
Но меня занимало, раньше моей поездки в Париж, не столько все это, сколько известие Клареси, чем наполнена теперь мастерская Верещагина и из чего она только и состоит: чудные этюды Индии и, вскользь упомянутые, какие-то «эпизоды войны». Эпизоды, эпизоды — но какой войны? Неужели одной из прежних? Ташкентской, хивинской, кавказской? Казалось бы, если нынешней, последней турецко-болгарской, то как же было французу, всегда влюбленному в современность и жадно глотающему ее, не рассказать в горячих и ярких словах, что он такое увидал вдруг у Верещагина в мастерской? Наверное, он заговорил бы про эпизоды такой войны, да еще писанные нынешней кистью Верещагина громким голосом! Или они не удались Верещагину? Но нет, сказано: «Что тут за поэзия и что за правда!» Я ничего понять и сообразить не мог и только дивился. От этого я и решился, как буду в Париже, непременно постараться, во что бы то ни стало, попасть к Верещагину и увидать его мастерскую.
Правду сказать, это совершенно против моих правил и моего образа мыслей. Я вместе со многими, нынче, нахожу, что не только не следует считать за честь и счастье ходить по мастерским художников (как это, бывало, прежде считалось), но что этого надобно избегать. Я уже не говорю про то, что, бывало, такое хождение, например, в Италии, или у нас, или в Париже, считалось чем-то чрезвычайно комильфотным и аристократическим — как же, ведь я вижу то, чего другие (толпа!) не видят и не знают, я вроде того, как будто землянику и вишни глотаю в марте или апреле — не говоря уже про это дурацкое самоуслаждение и чванство, но если взять дело даже с самой лучшей, с самой чистой стороны, все-таки это никуда не годится. На что вам видеть то, что не кончено, чего художник не в состоянии выставить для всех? Что за исключение и что за привилегия? И неужели вам такой спех, такая крайность, неужели у вас в груди сияет такой огонь и горит такой пыл к русскому искусству, что даже ни капельки подождать нельзя и надо непременно вот сейчас, вот сию минуту, пойти и смотреть, что именно делают наши художники. О боже мой, вот-то страсть к искусству припала! Дождаться общей выставки — ни за что! Как можно! Мы не можем ждать, мы просто погибнем от нетерпения!