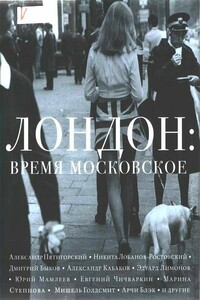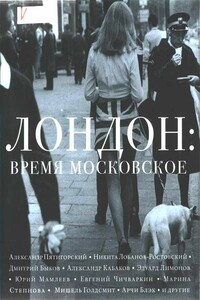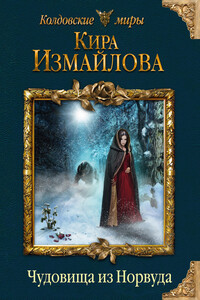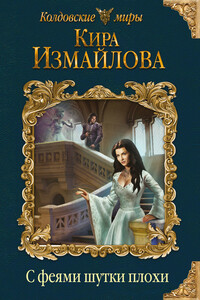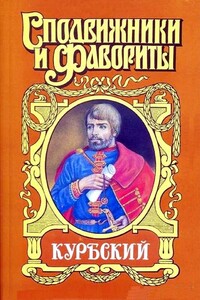Повесть
Рукопись повести Николая Плотникова «Маршрут Эдуарда Райнера» попала ко мне случайно, и, признаюсь, я долго не мог взяться за чтение, хотя этой повести давали очень высокую оценку. Меня всегда настораживает восторженный отзыв, и за чтение я принялся с предубеждением. Но с первых же страниц понял, что передо мной произведение, написанное талантливым пером.
Автором повести оказался немолодой уже человек, родившийся в 1924 году в Москве и проведший детство на Арбате. Перед войной работал слесарем на заводе, а в сорок втором был призван и до конца войны находился в действующей армии: Украина. Белоруссия, Польша, штурм Берлина, освобождение Праги… Н. Плотников награжден орденом Отечественной войны и медалями.
Человек, прошедший трудный военный и жизненный путь и начавший поздно, уже в зрелые годы, писать, — явление в нашей литературе привычное. Юрий Додолев или Вячеслав Кондратьев — яркое тому подтверждение.
Но повесть Николая Плотникова не о войне, вы не найдете в ней ни одного военного эпизода. Единственное, пожалуй, что роднит ее с военной литературой, это то, что герои Плотникова постоянно находятся в критических ситуациях, когда так же, как на фронте/ четко выявляется сущность их характеров, все их пороки и достоинства. Психологически точно рисует он портреты людей, создает картины жизни и природы, исполненные высокой красоты и подлинности, художественными средствами исследует сложные человеческие взаимоотношения. И если ему удалось создать остросюжетную повесть на таком, казалось бы, исхоженном вдоль и поперек материале, то я не сомневаюсь в успехе будущих его произведений.
Георгий СЕМЕНОВ.
1
Они вывалились из автобуса, из его распаренного нутра, и пошли по микроскверу, глотая выхлопной чад с привкусом кремния, мимо скамеек, занятых мающимися бездельниками, в ли-ловатую полутьму с зигзагами сигарет; они шли рядом, а полутьма уплотнялась, и одно за другим врубались в нее электрические окна и мешали думать, хотя именно думать-то ни о чем не хотелось.
Через новую площадь в стекле и неоне и налево — в прошлый век — меж каменных столбов навеса (в черноте стоячие внимательные лица), через улицу (светофор, икра голов — алых, потом зеленых), проходным двором в булыжный тупик с дворянскими особнячками (доживают, скоро на снос), в нелепый подъезд с кариатидами (бывший доходный дом), по грязной лестнице, некогда роскошной, с закруглениями на площадках (лифт не работал).
Он шел вверх за толстым Ромишевским и слушал, как чмокают их подошвы не спеша, повторяясь эхом, словно шли не двое, а трое, и он знал, кто третий, который подымался вот так не раз и не два — уверенно, законно. «А я зачем здесь?»
Здесь, в квартире № 87, собирался «совет старейшин», все свои, из одной связки. Здесь они выбирали маршруты, пути подхода и пути штурма, рассматривали кроки, панорамы, фотографии ледников. А через день-два многие уезжали к этим ледникам. И возвращались. Почему же не вернулся именно брат?
Два года назад, тоже в августе, это письмо на бланке альплагеря «Алибек» с копией акта, и мамин рычащий стон, и как она уперлась в стенку на кухне, точно стараясь ее опрокинуть, и ее посеревший лоб, щеки, волосы, посеревшее окно, и этот ползучий — изо дня в день — гнет, мертвенный, через год обыденный, необратимый, выдавливающий эти ее мелкие слезинки уже и без повода, постоянно, эти сырые дорожки, точащиеся в припухлостях лица, когда она сидела ночами на кровати, как сломанный манекен, а он ходил и курил и безнадежно говорил что-то, уже догадываясь с ужасом, что ее внутри полностью подменили, что мать теперь слабоумная старушка, почти незнакомая, равнодушная ко всему, кроме каких-то темных иероглифов в усохшем желтоватом черепе под редкой сединой. Никто этого не знал, кроме него, и никому нельзя было сказать об этом. «Почему Юра, а не он?» — так она думает, когда сидит, раскачиваясь монотонно, бессонно. Единственное спасение — читальный зал Исторички и, конечно, байдарка. А сейчас срывается поход: нет напарника на август. «Вот почему я здесь: может быть, найду компаньона. Да, вот почему, только за этим».
Он упрямо повторял это, чтобы не слышать эха шагов и не считать: двое идут или трое?
— Приехали, — сказал Ромишевский, и эхо исчезло.
Левантовичам — 1 зв.
Горелик — 2 зв.
Чередниковым — 3 зв.
Носову — 4 зв.
Четыре звонка, четыре автогенные вспышки в паутинном углу в недрах огромной квартиры — бывшей присяжного поверенного Ле-вантовича, а ныне, уже полвека, коммунальной, — долгая тишина и наконец, когда Ромишевский сказал: «Черт!» — щелчок двери и треугольное лицо под светлым завитком, прищуренный глаз, черные от помады губы.
В тусклом провале прихожей она казалась молодой.
— Здорово, Маргит. Это Юркин брат — Дима, Димка.
Она кивнула и пошла вперед, в катакомбы. Узкая спина, стрижка под мальчика, ловкий шаг. Корзины, лыжи, шкафы, вешалки, и все громче гомон, такой знакомый чем-то, что он смутился: там, среди друзей, сидит брат Юра, вон там, за этой грязно-белой дверью.
Комната была забита дымом, гамом и лицами. В распахнутое окно поддувало ржавым сквознячком. Шел спор, и он не прервался, не отвлекся от их прихода, спор полунамеками, но изнутри натянутый, настороженный и для всех важный.