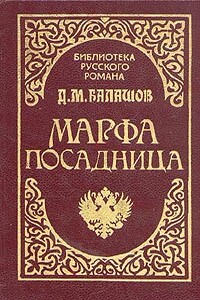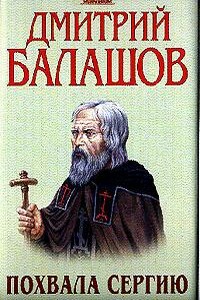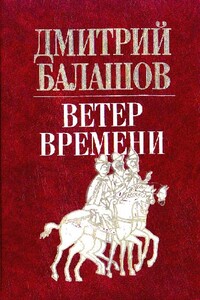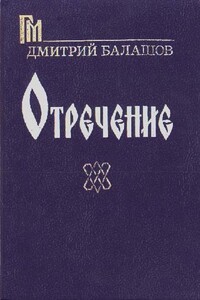Золоченые верхи великого терема горели багряным огнем. Россыпями камения самоцветного искрились стекольчатые окна вышних горниц. У крыльца хохотала челядь, и плетеные расписные грифоны и змии тоже словно смеялись, разевая богомерзкие пасти.
Зосима стоял, наполовину утонув в густой тени, подбиравшейся к середине двора, и все еще медлил, не понимая того, что произошло. Грубый дорожный посох дрожал в руке угодника. Столько ждал он этого часа, столько раз мысленно, благословив великую боярыню, непременно вышедшую ради него на крыльцо, неспешно подымался в богатую столовую палату… И еще прошлой ночью, в жаркой молитве, не знамение ли привиделось ему, не знак ли то был тайный? И не оттого ли, не послушав совета осторожного онтоновского келаря[1], ни к кому иному, ни в палаты владычные, ни к тысяцкому, ни к степенному посаднику Ивану Лукиничу направил он стопы свои, а прямо сюда, к ней, к великой неревской боярыне Марфе. Мнилось: грозно ли брови сведет, упрекать ли станет, отречется ли от злонеистовства слуг своих? Но чтобы так, так вот просто не принять, не пустить, не выйти?!
Он еще водил глазами по оконью, и посох дрожал в жилистой сухой руке, а наглый холоп уже двинулся на него грудью расшитой шелками рубахи, вытесняя Зосиму со двора. Как татя, как пса, как последнего нищего!
И тогда, в гневе и ужасе, что вот-вот руки раба рванут на нем посконную рясу, опозорят святое одеяние, Зосима закричал, грозя и проклиная златоверхий терем, тряся головой и стуча посохом. И холуй, сбычась, отступил на шаг, смутясь, не зная, как поступить.
- Недостойны вы мира моего! И прах ваш отрясу от ног своих! Истинно глаголю: отраднее будет день судный Содому и Гоморре, нежели гордому дому сему!
Кто-то охнул, кто-то закрестился из баб, но молчали горящие закатным огнем вышние окна, и не хлопнула оконница, не отворилось окно в покоях боярыни - да и слыхала ли она?
- Отче! - боязливо позвал оробевший отрок.
К ним, через двор, решительно шел Марфин ключник в дорогом боярском зипуне, двое слуг поспешали следом.
- Отче, поидемо!
Круто поворотясь, так, что подол рясы хлестнул по ногам, и помавая головой, Зосима устремился вон из двора.
Ключник с холопьями, не отступая, молча следовал сзади. Зосима забыл о нем, заставил себя забыть, но другое притекло в сознание, когда за воротами вновь узрелось ему тьмочисленное кипение великого города. С высоты, в конце Великой, над хоромами, над верхами дерев, над шатрами деревянных и куполами каменных храмов, увидел он золотоглавое и белокаменное громозжение Детинца, с граненой башней Евфимьевской, в розовеющей пене новых церквей надвратных; и вышки, и гульбища боярских теремов, и лодейное на реке толпление, и необычайную густоту уличную… И на миг - себя, как бы со стороны, малого, бедно одеянного, забавно машущего руками у подножия знатного терема, середи шумящего моря людского, где холопы и те носят платье, не снившееся мужикам на далеком Поморском берегу.
Испытуя, пронзительно глянул на Данилу. Но отрок, коему угодник всегда был примером святости и строгости отчей, сам испуганный невиданным доднесь многолюдьем и шумом градским, ответил ему обычным взглядом почтительного обожания, и это успокоило.
- Гляди! - строго велел Зосима, резко обведя посохом зримое и мало не задев прохожего горожанина. - Как древлии Содом и Гоморра, роскошью и многолюдством, и бесстыдной алчбой, и завистью переполнено, а паче гордыней! Все тлен, суета сует! Запомни: дни грядут, и близко уже, когда дома сего жители не изследят стопами двора своего, и житници их оскудеют, и затворятся двери их, и паки не отверзутся, и порастет травою двор их, и будет пуст!
Зосима говорил нарочито, и Данило испуганно озирался, ожидая покоров, но проходящие едва взглядывали на них, редко кто с мимолетным любопытством, угадывая приезжих в старце и отроке, спускавшихся под угор, к пристани.
Дневные труды приканчивались, и лодейные мужики, распрямив натруженные за день спины, сгрудились у вымола, ожидая, пока старшой сочтет уложенные кули. Смолисто пахло от нагретых бревен. Лес был Марфин. Марфины были амбары с зерном, скорой, рыбой, дорогими мехами и льном. Марфины кули на лодьях. Марфины бочки с салом морского зверя громоздились на берегу. Марфины насады налезали смолеными носами на песок, и люди грудились у вымола, почитай, тоже чуть не все Марфины. Если бы не ключник, шедший следом… Оглянувшись, Зосима увидел, что следом поспешают два прежние холопа, а ключника уже нет. Видно, только вывел за ворота и тотчас поворотил назад - и это тоже было как заушение.
Сгорбясь, Зосима остоялся у соляного амбара. Соль! Сколько соли! Даже на земле просыпанная: две овцы, пихая друг друга лбами, подбирали белые крупинки с песка. Коза, выворачивая худую жилистую шею, тряся бородой и смертно закатывая глаза, грызла длинными желтыми зубами порожек соляного амбара, лихорадочно вылизывала шершавым языком исщербленную колоду - тоже норовила урвать малую крупицу Марфиной соли. Отрывисто дергался клок задранной козьей бороды, вымя болталось меж раскоряченных ног, как пустой мешок или как торба странствующего монаха, и Зосима, сглотнув невольную слюну, отворотился, уязвленный.