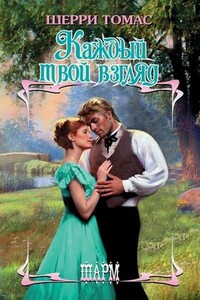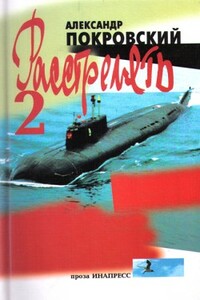Вот какая приключилась история. Он сидел один в своей комнате и смотрел в окно. Квартирка на первом этаже окнами на тихую улочку, и мимо иногда кто-то проходил. Он не мог потом сказать как он это все почувствовал, то ли по жилкам прошелестела холодная вода и кожа стала влажной, в пупырышку, то ли воздух стал гуще, тяжелей, он не мог этого вспомнить, но что-то точно уж было.
Да, вот, из комнаты оказались изъяты все звуки. Совершенно все. Это было состояние абсолютной, реальной глухоты, глухоты насильственной, как будто кто-то вынул из игрушечного, маленького внутреннего уха крохотный костяной молоточек и маленькая костяная наковаленка удивленно замерла; и сам он скорее более удивился, чем испугался этого необычного состояния полной обеззву-ченности, и в этом состоянии он увидел то, что в художественной литературе именуют отчужденным местоимением, то есть он увидел его.
Он увидел его.
Тот тип прошествовал мимо окна в знакомой бежевой тенниске, в старомодных широких брюках.
Не может быть! Он привстал, глаза его округлились, стало холодно и в спине замерцала какая-то пунктирная линия.
А потом в тишине послышалось, как в замочную скважину привычно вставляют ключ. Это был их ключ — старый, длинный, бородатый. Ключ, казалось, бесконечно долго находился в скважине. Потом его стали поворачивать. С этого момента все происходило, как ему показалось, в каком-то белесом глуховатом облаке.
Он не ощущал своего тела. Странно. Тела как бы не было вовсе. Одно только зябкое, светлое мягкое пятно, в котором все и происходило.
Он почему-то оказался лицом к входной двери.
Дверь не распахнулась, не раскрылась, она именно растворилась, и все стало зыбко, но того человека он увидел отчетливо. Вошедшему было шестнадцать лет. Это было совершенно точно известно. Рост, походка, одежда, даже то, как он держал, несколько вывернув руки — все было знакомо, точно на засмотренной фотографии.
— А кто вы такой будете, гражданин? — спросил его вошедший. — А что вы здесь у нас делаете?
После этого стало трясти. Он закрыл глаза. Когда открыл их, в комнате не было никого. Тикали часы Он знал кто к нему приходил. К нему приходил он сам, только шестнадцатилетний. Это страшно. Он потом долго не мог смотреть в зеркало, хотя любил вообще-то свое отражение. А тут вот не мог. Ему было виденье: он сам пришел к себе Шестнадцатилетним.
Но почему именно шестнадцатилетним? Ну, может быть потому, что шестнадцать лет — это время, когда впервые чувствуешь свою тоскливую единичность, впервые осознаешь себя собою, когда начинаешь по-новому ощущать свое собственное тело, когда начинаешь понимать, что живешь в этом мире только по необъяснимому стечению каких-то смутных обстоятельств.
Это странное, а возможно и страшное время, время отчуждения от самого себя, ведь в шестнадцать лет человек играет на такой тоскливой суицидной дудочке, потому что перед ним открывается возможность выбора, а вместо выбора получается только судорожный вдох, вмещающий в себя все тревоги мира.
Его потом несколько раз посещала мысль, что всякий человек в каждый момент времени как бы поделен надвое, одна половина, а на самом деле целое, всегда продолжает движение, живет во времени — взрослеет, и в каждый момент не равна самой себе, и даже умирает, а другая тоже не меньше целого — дискретный, сиюминутный человек — точный моментальный слепок с того, так сказать, основного — никуда не движется, где-то так и существует, как говорится, вне времени и пространства. В каких-то континуумах. Затянувшихся каникулах. И его иногда можно вызвать, прежнего, давнего. На свиданьице.
Эта мысль, может и не мысль, а не оформленное, не проговоренное про себя томление, посещала его во сне и он просыпался в поту. Сильно болела спина, ныла шея, как, может быть, они должны были бы болеть у куклы, обычной куклы, которую одевает на три растопыренных пальца кукловод.
(Мы приводим эту метафору здесь не случайно. Наш герой имеет ко всему этому самое непосредственное отношение. И вы очень скоро убедитесь какое самое непосредственное отношение он ко всему этому имеет).
Итак, он просыпался. А почему бы ему, собственно, и не проснуться? Ну, просыпался. Да. Просыпался — болела спина. А почему бы ей, собственно, не болеть? Спине. Спина болела у многих, и они жаловались ему, капризничали, а он думал, что вот теперь, когда они, каждый в отдельности, жалуются ему, то они и похожи на людей, а не тогда, когда они собираются все вместе. Тогда каждый из них начинает играть какую-то свою, им самим когда-то выдуманную роль.
А как они при этом непонятны и в мыслях и в движениях!
А как они возмутительно брюхаты: и мужчины и женщины!
Ради того, чтобы понять это не нужно даже ходить на городской пляж, где и те и другие лежат тряскими грудами в своей выходной, перехваченной кусками ветоши.
Там, почему-то, начинаешь думать, что человеческое тело — это такая мерзость!
Такая мерзость, смею вас уверить, такая мерзость, что невольно благодаришь природу за то, что человеческие совокупления происходят по ночам.
Он не совокуплялся по ночам. Не с кем было. Он был не женат, он был строен и он не совокуплялся, и еще его слегка поташнивало.