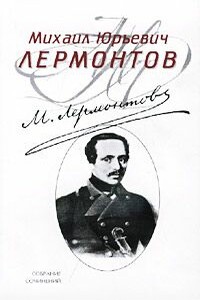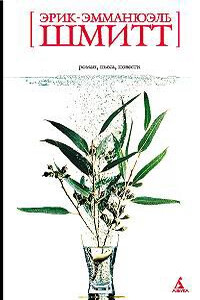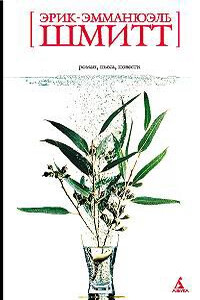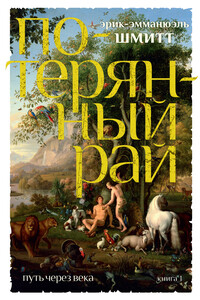Действующие лица
ЛИЗА
ЖИЛЬ
Ночь. Квартира.
Слышен звук ключа в замке и отпирающихся задвижек.
Дверь открывается, пропуская две тени в ореоле желтоватого света из коридора.
Женщина входит в комнату, мужчина с чемоданом в руке остается позади нее, на пороге, как будто не решаясь войти.
Лиза быстро начинает зажигать один за другим все светильники, ей не терпится дать свет на место действия.
Как только квартира освещена, она распахивает руки, демонстрируя интерьер, как если бы это была декорация к спектаклю.
ЛИЗА. Ну, как?
Он отрицательно качает головой. Она обеспокоена и настаивает.
ЛИЗА. Не торопись! Сосредоточься.
Он внимательно и досконально оглядывает всю имеющуюся мебель, потом опускает голову. Вид у него несчастный и пришибленный.
ЛИЗА. Ничего?
ЖИЛЬ. Ничего.
Однако этот ответ ее не удовлетворяет. Она ставит на пол чемодан, закрывает дверь, берет его под руку и ведет до кресла.
ЛИЗА. Вот кресло, где ты любишь читать.
ЖИЛЬ. Оно мне кажется несколько поизносившимся.
ЛИЗА. Я тысячу раз предлагала сменить обивку, но ты всегда отвечал: либо я, либо обойщик.
Жиль усаживается в кресло. На лице его появляется гримаса боли.
ЖИЛЬ. Тут не только обивку надо менять, пружины как будто тоже…
ЛИЗА. Пружина интеллекта.
ЖИЛЬ. Что, что?
ЛИЗА. Ты считаешь, что польза от кресла есть только тогда, когда оно неудобно. А пружину, которая в данный момент врезалась тебе в левую ягодицу, ты называешь пружиной интеллекта, уколом мысли, пиком неусыпной бдительности!
ЖИЛЬ. Кто же я: псевдоинтеллектуал или подлинный факир?
ЛИЗА. Пересядь-ка лучше к письменному столу.
Он послушно следует ее совету, но стул вызывает у него недоверие, и он предварительно кладет на него руку. Когда он садится, слышится металлический стон. Он вздыхает.
ЖИЛЬ. Имеется ли у меня теория и относительно скрипящих стульев?
ЛИЗА. Разумеется. Ты запрещаешь мне смазывать пружины маслом. Для тебя каждый скрип — сигнал тревоги. А ржавая табуретка — активный участник твоей битвы против всеобщей расслабленности.
ЖИЛЬ. Сдается мне, я оброс теориями на все случаи жизни?
ЛИЗА. Почти. Ты не выносишь, когда я навожу порядок на твоем письменном столе, и называешь первозданный хаос в своих бумагах «порядком исторического складирования». Полагаешь, что книги без пыли напоминают чтиво в зале ожидания. Считаешь, что хлебные крошки — не мусор, потому что хлеб мы употребляем в пищу. А совсем недавно уверял меня, будто крошки — это слезинки хлеба, который страдает, когда мы его режем. Отсюда вывод: диваны и кровати полны скорби. Ты никогда не заменяешь перегоревшие лампочки под тем предлогом, что в течение нескольких дней следует соблюдать траур по угасшему свету. Пятнадцать лет обучения в брачном союзе научили меня сведению всех твоих теорий к единственному, но основополагающему тезису: ничего не делай в доме!
Он улыбается мягкой, извиняющейся улыбкой.
ЖИЛЬ. Жизнь со мной — настоящий ад, верно?
Она с удивлением поворачивается к нему.
ЛИЗА. Ты меня растрогал своим вопросом.
ЖИЛЬ. И каков же будет ответ?
Она не отвечает. Поскольку он продолжает ждать, кончается тем, что она уступает с застенчивой кроткостью:
ЛИЗА. Конечно, это ад, но… определенным образом… этот ад меня устраивает.
ЖИЛЬ. Почему?
ЛИЗА. В нем тепло…
ЖИЛЬ. В аду всегда тепло.
ЛИЗА. И у меня там есть место…
ЖИЛЬ. О, мудрый Люцифер…
Умиротворенный ее признаниями, он направляет свое внимание на окружающие его предметы.
ЖИЛЬ. Странно… у меня такое чувство, словно я — новорожденный, но взрослый. Кстати, сколько дней?
ЛИЗА. Пятнадцать…
ЖИЛЬ. Уже?
ЛИЗА. А мне казалось, время течет так медленно.
ЖИЛЬ. По мне, так — стремительно. (Самому себе) Проснулся утром в больнице, рот мокрый, как будто я вышел от дантиста, по коже мурашки бегают, на голове — повязка, в черепе — тяжесть. «Что я здесь делаю? Со мной несчастный случай? Но я жив». Пробуждение, несущее облегчение. Коснулся своего тела, как если бы мне его только что вернули. Я вам рассказал…
ЛИЗА(поправляет его). Тебе!
ЖИЛЬ(продолжает). Я тебе рассказал про номер с сиделкой?
ЛИЗА. Номер с сиделкой?
ЖИЛЬ. Сиделка входит. «Рада видеть вас с открытыми глазами, господин Андари». Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть, с кем она разговаривает, и вижу, что я совершенно один. Она опять: «Как вы себя чувствуете, господин Андари?» И вид у нее такой уверенный. Тогда я собираю все свои силы, чтобы преодолеть усталость и ответить ей хоть что-нибудь. Когда она уходит, я взбираюсь на кровать, дотягиваюсь до температурного листа — и там это имя: Жиль Андари. «Почему они меня так называют? Откуда это заблуждение?» На Андари ничто во мне не откликается. И в то же время я не могу себе дать и никакого другого имени, в памяти бродят лишь какие-то детские прозвища — Микки, Винни, Медвежонок, Фантазио, Белоснежка. Отдаю себе отчет, что я не знаю, кто я такой. Потерял память. Память о себе. Зато по-прежнему отлично помню латинские склонения, таблицу умножения, спряжение русских глаголов, греческий алфавит. Твержу их про себя. Это меня ободряет. Вернется и остальное. Не может же быть, чтобы, помня назубок умножение на восемь — самое трудное, все знают, — не вспомнить, кто ты есть? Пытаюсь пресечь панику. В какой-то момент мне удается даже себя убедить, что память мне сдавливает повязка, слишком туго охватывающая голову; стоит ее снять, и всё вернется на свои места. Один за другим приходят врачи и сестры. Я рассказываю им о потере памяти. Они серьезно выслушивают. Объясняю им мою теорию сдавливающей повязки. Они моего оптимизма не оспаривают. Несколькими днями позже в палату входит другая сиделка, красивая женщина, без униформы. «Клево, новая сиделка! — говорю я себе. — Но почему она в цивильном?» Она ничего не говорит, только смотрит на меня и улыбается, берет мою руку, гладит меня по щеке. Назревает вопрос: не послана ли мне эта няня для выполнения специальных, специфических функций, «обслуживание страдающих самцов», няня — член бригады путан. Но тут сиделка в цивильном объявляет, что она — моя жена.