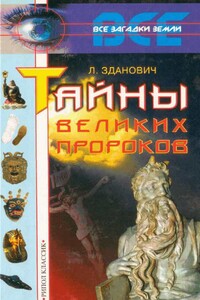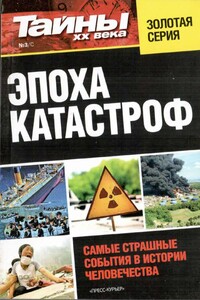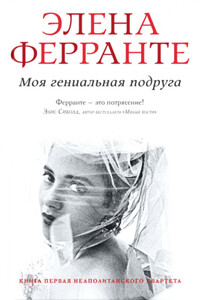Я очень любила отца, он всегда был заботливым и милым. Утонченные манеры соответствовали худощавому телу – любая одежда казалась ему велика, в моих глазах это придавало отцу неподражаемую элегантность. У него были тонкие черты лица, и ничто – ни идеально вылепленный нос, ни пухлые губы, ни глубокие, с длинными ресницами глаза – не нарушало общей гармонии. Со мной он всегда разговаривал весело, независимо от своего и моего настроения, и не уходил к себе в кабинет (отец все время работал), пока я хотя бы не улыбнусь. Больше всего ему нравились мои волосы – я уже и не вспомню, когда он начал их хвалить, наверное, мне было годика два или три. Зато я точно помню, что когда я была маленькая, мы вели такие разговоры:
– Какие красивые волосы, шелковистые, блестящие! Подаришь их мне?
– Нет, они мои.
– Ну не жадничай!
– Если хочешь, я их тебе одолжу.
– Ладно, но я их не верну.
– У тебя есть свои.
– Эти я забрал у тебя.
– Неправда, ты все придумываешь.
– Хочешь – проверь: они были такие красивые, что я их украл.
Я проверяла, но понарошку, я знала, что он бы ни за что не украл у меня волосы. А еще я смеялась, много смеялась, с отцом мне было веселее, чем с мамой. Он все время просил что-нибудь ему отдать – ухо, нос, подбородок. Утверждал, что они настолько прекрасны, что он без них жить не может. Мне страшно нравилось, когда отец так говорил: он постоянно подчеркивал, что я ему очень нужна.
Конечно, отец вел себя подобным образом не со всеми. Иногда, если что-то его глубоко трогало, он взахлеб рассуждал о сложных вещах, не сдерживая чувств. А иногда, напротив, бывал немногословен, отделывался короткими, меткими фразами, настолько емкими, что разговор сразу затухал. Эти два отца были совсем не похожи на того, которого я любила, я обнаружила их существование лет в семь-восемь, услышав, как отец спорит с друзьями и знакомыми, – они собирались у нас дома и горячо обсуждали то, в чем я ничегошеньки не понимала. Обычно я сидела с мамой на кухне и почти не обращала внимания на шедшие совсем рядом баталии. Но иногда, если мама тоже бывала занята и уходила к себе в комнату, я оставалась в коридоре одна – играла или читала, пожалуй, чаще читала, потому что отец много читал, мама тоже, а мне хотелось им подражать. Я не обращала внимания на взрослые споры и бросала чтение или игру, только когда в повисшей тишине внезапно раздавался один из «чужих» отцовских голосов. С этой минуты все его слушали, а я ждала, когда же закончится собрание, чтобы удостовериться, что отец опять стал таким, как обычно, – нежным и ласковым.
Тем вечером, за мгновение до того, как произнести врезавшиеся мне в память слова, отец узнал, что у меня не все в порядке с учебой. Для него это стало открытием. С первого класса я всегда училась хорошо и только в последние два месяца начала отставать. Родителям очень хотелось, чтобы у меня были высокие оценки, поэтому при первых тревожных звоночках они заволновались, особенно мама.
– Что с тобой?
– Не знаю.
– Надо стараться.
– Я стараюсь.
– Так в чем же дело?
– Что-то я помню, а что-то нет.
– Учи, пока все не запомнишь.
Я учила до изнеможения, но результаты все равно разочаровывали. В тот день мама ходила в школу беседовать с учителями и вернулась расстроенная. Она меня не ругала – родители никогда меня не ругали. Она лишь сказала: больше всего недовольна учительница математики, но она считает, что если ты захочешь, у тебя все получится. Потом мама ушла на кухню готовить ужин; тем временем вернулся отец. Я слышала из своей комнаты, как она пересказывает ему претензии учителей, и поняла, что она пытается меня оправдать, ссылаясь на переходный возраст. Однако отец перебил ее и голосом, которым он со мной никогда не разговаривал – с ноткой диалекта, строго-настрого запрещенного в нашем доме, – сказал, не сдержавшись, то, о чем ему лучше было бы промолчать:
– Причем тут переходный возраст, она становится похожа лицом на Витторию.
Знай отец, что я могу его услышать, он бы никогда не произнес это таким тоном, совсем далеким от того, каким велись наши обычные непринужденные, шутливые разговоры. Оба родителя полагали, что дверь в мою комнату закрыта, я всегда ее закрывала, и не заметили, что кто-то из них оставил ее приоткрытой. Так в двенадцать лет я узнала от отца, старавшегося говорить как можно тише, что становлюсь похожа на его сестру, на женщину, которая – отец твердил это, сколько я себя помню, – воплощала уродство и злобу.