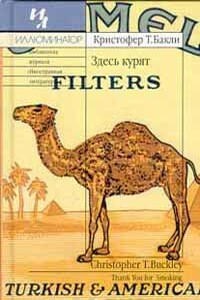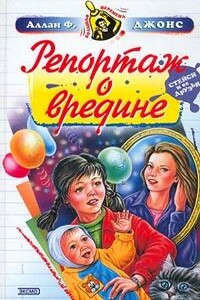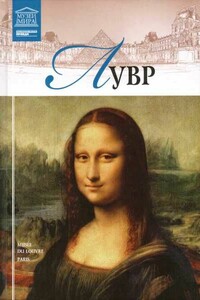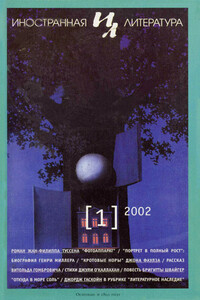~~~
Я обзавелся пузырьком с соляной кислотой и постоянно носил его при себе с мыслью в один прекрасный день выплеснуть содержимое кому-нибудь в рожу. Надо будет просто открыть флакончик, флакончик дымчатого стекла из-под перекиси водорода, прицелиться, чтоб в глаза, и дать деру. Странно, но я чувствовал себя умиротворенным, с тех пор как раздобыл эту склянку с едкой янтарной жидкостью, придававшей пикантность моему времяпрепровождению, а мыслям — остроту. Только вот Мари беспокоилась — возможно, не без оснований, — как бы кислота в конечном итоге не угодила в мои собственные глаза и не отравила взгляд. Или в рожу ей, в ее заплаканное уже много недель лицо. Не думаю, отвечал я, отнекиваясь с милой улыбкой. Не думаю, Мари, и, не спуская с нее глаз, поглаживал горлышко и бока флакончика в кармане куртки.
Плакать Мари начала, когда мы еще даже не поцеловались. Это было в такси семь с лишним лет назад, она сидела в сумрачном салоне рядом со мной, и по ее зареванному лицу пробегали неясные тени набережной Сены и желтые и белые отсветы фар проносившихся навстречу автомобилей. Мы тогда еще ни разу не поцеловались, я еще не взял ее за руку, ни словом не обмолвился о любви — а разве я когда-нибудь говорил ей о любви? — я смотрел, как она плачет, взволнованный этим и растерянный.
Та же сцена повторилась несколько недель назад в Токио, только теперь мы расставались, расставались навсегда. Такси везло нас в отель «Синдзюку», где мы остановились утром того же дня, ехали молча, Мари беззвучно рыдала, она икала и тихо-тихо всхлипывала у меня на плече, беспорядочными отрывистыми движениями утирая слезы тыльной стороной ладони, тяжелые слезы печали, уродовавшие ее и оставлявшие на лице подтеки черной туши, между тем как семь лет назад, в нашу первую встречу, по щекам ее невесомо струились чистые, легкие, словно пена, слезы радости. Печка в такси шпарила вовсю, Мари стало жарко до дурноты, и она принялась раздеваться, с усилием стягивая с себя длинное черное кожаное пальто, изворачиваясь на заднем сиденье, корча недовольные гримасы, точно злилась на меня за причиняемые неудобства, тогда как я, черт побери, был уж никак не виноват, что в салоне такая парильня, ей уместнее было бы пожаловаться водителю, чья фотография с именем и фамилией красовалась на видном месте на панели управления. Мари, оттолкнув меня, положила пальто между нами, затем сняла свитер, свернула трубочкой. Она осталась теперь в помятой белой блузке, выпроставшейся кое-где из-под брючного ремня и распахнутой на груди так, что виден был черный бюстгальтер. Мы всю дорогу ехали молча, зато по радио непрестанно звучали в полумраке загадочные и жизнерадостные японские песни.
Такси остановилось у дверей отеля. Семь лет назад в Париже я предложил Мари выпить по рюмочке, если еще найдется открытая забегаловка поблизости от Бастилии, на улице Лапп, Рокетт, Амло или, может, Па-де-ля-Мюль, не важно. Мы долго блуждали в потемках по всему кварталу от кафе к кафе, с одной улицы на другую и очутились в итоге на Сене, на острове Сен-Луи. Той ночью мы поцеловались не сразу. Нет, не сразу. Кому же не приятно продлить сладостные минуты, предшествующие первому поцелую, когда два существа, которых влечет друг к другу, уже решили, каждый про себя, что поцелуются, уже их глаза это знают, улыбки угадывают, губы и руки предчувствуют, но они, эти двое, все оттягивают дивное мгновение?
В Токио мы немедленно отправились в номер, прошли, не говоря ни слова, через огромный пустой холл, где сверкали хрустальные люстры, трио ослепительных люстр, тихо шатнувшихся на наших глазах в ту самую минуту, когда мы входили в отель, они качнулись, как соборные колокола, и отряхнулись у нас над головами с тихим звяканьем хрусталя, сопровождавшим неудержимый отчаянный ропот мировой материи, сотрясший пол и стены, а потом, когда миновала волна, дрогнул свет на потолке, и на мгновение отель погрузился во тьму, после чего все еще качающиеся люстры зажглись одна за другой и стали успокаиваться, подрагивая тысячами постепенно замирающих пластинок из прозрачного стекла. Стойка администрации пустовала, не было никого и в лифте, неспешно поднимавшем нас под своды атриума, где в прозрачной кабине мы ехали рядом и молчали, Мари стояла вся в слезах, держа на руке черное кожаное пальто и свитер, и все глядела на люстры, никак не желавшие угомониться после легкого землетрясения, такого слабого, что мне подумалось, уж не в наших ли сердцах оно произошло. Бесконечный беззвучный коридор на этаже, бежевый ковер, оставленный перед одной из дверей сервировочный столик с беспорядочными остатками ужина и небрежно брошенной на грязную тарелку салфеткой. Мари шла впереди меня, устало поникшие плечи, обессиленная рука, скользящая по коридорной стене. Я догнал ее у самого номера, вставил магнитную карту в замок, открыл дверь. В каждый из этих двух вечеров — тогда в Париже и теперь в Токио — мы занимались любовью, в первом случае — в первый раз, во втором — в последний.
Да, но сколько раз мы занимались любовью в последний раз? Не знаю. Часто. Часто… Я закрыл за собой дверь и смотрел, как Мари с черным кожаным пальто и свитером на руке идет по комнате, пошатываясь от усталости, в белой, выбившейся из брюк блузке — эта растерзанная блузка не будет давать мне покоя, пока Мари ее не снимет, и тогда останется только лицо Мари, крепко сжатое моими руками, ее горячие виски у меня под ладонями, — я смотрел, как она, засыпая на ходу, проливает медленные неутолимые слезы, и думал, что сегодня ночью мы все-таки займемся любовью и это будет душераздирающе. Мы не включили свет, ни верхний, ни на тумбочке, и в широкое окно гостиничного номера нам открылся вид на сверкающий в ночи административный район Синдзюку и на расположенный совсем близко, так близко, что пропорции деформировались до неузнаваемости, левый бок гигантского здания Токийской мэрии архитектора Кэндзо Тангэ. Внизу, в нескольких метрах от окна, тенью лежалая плоская крыша, сплошь утыканная вертикальными стойками неоновых ламп, невозмутимо мигавших во тьме, подобно сигнальным огням самолета, и размытые отблески красноватым, черным, лиловым пунктиром вливались в комнату, окрашивая стены застенчивым румянцем, от которого слезы на щеках Мари загорались инфракрасными лучами, превращаясь в прозрачную абстракцию. Она шла вдоль широкого окна, в темноте угадывались ее заплаканные глаза, незапятнанной белизны полурасстегнутая блузка мерцала через равные промежутки времени небывалым сангинным светом, приглушаемым пульсирующими вспышками неоновых ламп на крышах. Я шагнул к ней и тоже стал смотреть на густой раскидистый сноп величественных башен и офисных зданий, высившихся перед нами во мраке и с высоты своих этажей, казалось, лично досматривавших отведенный им административный участок тишины и ночи, меж тем как мой взгляд медленно скользил с Сумитомо Билдинг на Мицуи Билдинг, Сентер Билдинг и отель «Кэйо Плаза». Почему ты не хочешь меня поцеловать? — тихо спросила Мари, уставившись вдаль с каким-то упрямым выражением на лице. Я продолжал смотреть в окно и ничего не отвечал. Потом ответил нейтральным и на удивление спокойным тоном, дескать, никогда не говорил ей, что не хочу ее целовать. Тогда почему ты меня не целуешь? — сказала она, подойдя ближе и положив руку мне на плечо. Я напрягся, по возможности ласково отвел ее руку и снова стал всматриваться в ночной город. Потом произнес тем же спокойным, чуть ли не безучастным протокольным голосом: я также не говорил, что хочу тебя поцеловать. (Этот поцелуй запоздал, Мари, теперь уже слишком поздно.) Стоя перед окном, она устремила на меня долгий взгляд. Пойдем спать, Мари, сказал я, пойдем спать, уже поздно, — дрожь усталости и раздражения пробежала по ее плечу. Я хотел еще что-то добавить, но сдержался, промолчал и нежно взял ее за локоть, она же резко отдернула руку. Сказала: ты меня больше не любишь.