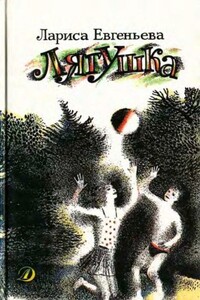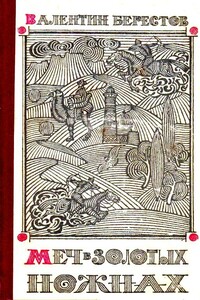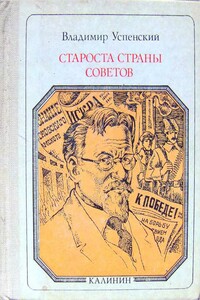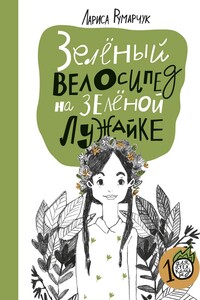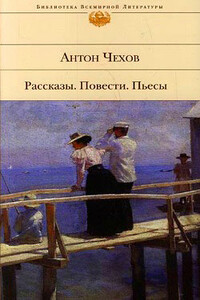Ветка дерева качалась то вправо, то влево, лицо девочки становилось лилово-бледным под мертвенным светом фонаря или же исчезало в темноте. Капюшон куртки почти сполз у нее с головы, косо лепил мокрый снег с дождем, и пряди волос жалкими сосульками свисали по обеим сторонам ее лица — угрюмо сосредоточенного, с немигающим взглядом светло-серых глаз. Казалось, она не замечала ничего — ни раскисшего снега, летящего в глаза, ни стекающих за шиворот струек воды.
Но вот она вздрогнула и сделала шаг: из подъезда появилась какая-то фигура и быстро зашагала прочь, горбясь и спрятав руки в карманах.
— Мурашов! — крикнула она тающей в темноте фигуре. — Игорь! Обожди!
Скользя, девочка бросилась следом. Мурашов остановился и стал ждать ее, все так же горбясь и не вынимая рук из карманов. Она тоже остановилась, не добежав несколько шагов, и почему-то не могла выдавить из себя ни звука. Молчал и он.
— Врезать тебе, что ли? — кашлянув, спросил наконец Мурашов.
— Врежь. — Она шагнула к нему и вытянула шею.
— Руки пачкать жалко.
Он сплюнул ей под ноги и зашагал совсем в другую сторону. Она знала почему: ему просто некуда было идти.
Если в пять утра во входную дверь страшно грохотало — это могло значить лишь одно: приехала тетя Соня. Тетушка вваливалась в прихожую, обвешанная сумками, авоськами и пакетами, и в ответ на радостно-растерянное: «С праздником!» — патетически вопрошала:
— Неужели ни один из вас не догадался меня встретить?!
Оправдываться было бессмысленно. Тетушкино письмо с вестью о приезде приходило на следующий день, а бывало, и позже.
Однажды Эра намекнула тете Соне, что телеграмму ей вряд ли удалось бы обогнать. Тетушка отрезала, смерив Эру уничтожающим взглядом:
— Если бы современная молодежь своим трудом заработала хотя бы копейку, она бы не швырялась с такой легкостью рублями!
Однако в этом году тетя что-то запаздывала. Приходилось лишь надеяться, что она успеет попрощаться со своим племянником и его женой (отцом и матерью Эры), которые уезжали на три года в Монголию работать по договору.
Попрощаться тетя успела и даже успела проводить племянника на самолет.
— Генка, — крикнула она вслед, — пиши! Только не забудь: «здравствуй» пишется с двумя «в»!
В какие-то незапамятные времена отец Эры написал «здраствуй», и тетя Соня никогда не забывала при случае об этом напомнить. И вот они улетели, а Эра с тетей Соней остались. Впрочем, квартира вовсе не стала выглядеть опустевшей: казалось, в ней поселились еще минимум трое.
Эрин отец называл тетю Соню мамой: дело в том, что она вырастила троих своих племянников. Так уж сложилась жизнь, что она осталась одинокой, однако вот уж кто не производил впечатления одинокого человека! Дел у тетушки было по горло. Какие-то общественные поручения, заседания, комиссии… Теперь же тетя Соня приехала не в гости, а как бы на постоянное жительство — до тех пор, пока Эрины родители не вернутся домой. И поскольку тетя Соня осталась один на один с Эрой, весь ворох тетиного опыта, сентенций и сведений опрокинулся на Эру.
А вечером наступал черед Души. С большой буквы.
— Пошепчемся по душам, — предлагала тетя Соня, присаживаясь на край Эриной постели. Или: — Мне кажется, миленькая, у тебя какой-то груз на душе?
Почему-то Эрин отец никогда не рассказывал о тетином пристрастии к разговорам по душам. Да и были ли они тогда, эти разговоры?
Пожелав Эре спокойной ночи, тетя Соня поцеловала ее в лоб и мечтательно проговорила:
— Прекрасный возраст. Завидую тебе. С каким удовольствием я вернулась бы в это благословенное время… Кстати, а как тебя дразнят? Если, конечно, это не секрет.
— Меня? — Эра помолчала. — Никак.
— Так уж и никак? — тонко улыбнулась тетя Соня. — Да ты не стесняйся! Меня, к примеру, дразнили Шмоня.
— Шмоня?!
— Ну да. Соня-Шмоня. Очень просто. А тебя?
— Я же сказала — никак.
— Нет, ты, если не хочешь, можешь не говорить… Но почему и не сказать, не посмеяться вместе? Ну, к примеру, если кто-то тебя окликает? Или зовет? Эй… — Тетя ободряюще помахала рукой.
— Эй, Эра, — сказала Эра и, зевнув, отвернулась к стене, давая понять, что разговор окончен. Почему-то она стеснялась признаться, как ее называют. Хотя, конечно, ничего стыдного в этом не было.
Эра Милосердия — вот как ее называли. Или Милосердная Эра. Или просто: «Эй, Милосердная!» Теперь она даже не смогла бы ответить, когда ее стали так называть, настолько она сжилась со своей кличкой. И кто. Может, когда в класс к ним пришла новенькая? Люба Полынова. Она все время застенчиво улыбалась, краснела и отводила взгляд, точно просила прощения за то, что она существует на свете. Она терялась чуть ли не до смерти, если кто-нибудь к ней обращался — неважно кто, ребята или учителя, — на щеках у нее вспыхивал неровный румянец, а глаза наливались слезами. Эра в жизни не встречала таких застенчивых. Разговорить Полынову было практически невозможно — она послушно кивала, почти не слушая, и, краснея до ушей, смотрела в пол. Хуже всего — ее самочувствие каким-то образом передавалось другим. Она мучилась, и с ней мучились. Через несколько дней она осталась за партой одна, и, несмотря на все старания классной, место так и осталось пустовать. Тогда туда села Эра.