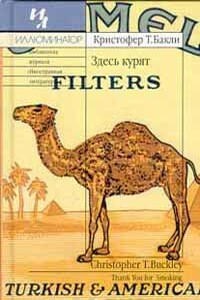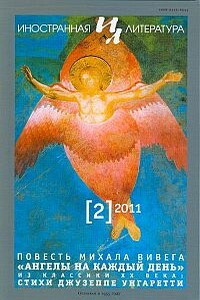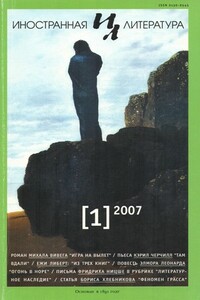1) По Зитиным прогнозам, Квидо должен был появиться на свет в первую неделю сентября тысяча девятьсот шестьдесят второго года в родильном доме в Подоли.[2]
К этому времени за плечами его матери было двенадцать театральных сезонов, однако большую часть своих, преимущественно детских, ролей в пьесах Ирасека, Тыла, Когоута и Макаренко она считала слегка компрометирующими грехами молодости. Она, кстати, изучала право, была уже на четвертом курсе юридического факультета и свое нынешнее амплуа статистки в театре Чехословацкой армии воспринимала лишь как необязательное занятие (что, впрочем, не мешало ей срок родов — обстоятельство, совершенно случайно падающее на конец театрального сезона, — изображать перед своими более удачливыми коллегами как факт само собой разумеющейся профессиональной дисциплины). Как ни парадоксально, но при всей своей наигранной восторженности мать Квидо — бывшая звезда школьных спектаклей — по сути, отличалась чрезвычайной застенчивостью и, кроме Зиты, никому другому не позволяла себя осматривать. Пани Зита, главный врач Подольского родильного дома и давняя подруга бабушки Либы, знавшая мать Квидо с пеленок, старалась терпеливо сносить ее причуды и обещала ей организовать родовспоможение таким образом, чтобы в этот критический день в отделении не дежурил ни один врач мужского пола.
У Зиты в Подоли
роды без боли, —
рифмовала за столом бабушка Либа, и даже дедушка Йозеф, отец Квидова отца, априорно скептичный по отношению ко всему коммунистическому, в том числе, естественно, и к здравоохранению, готов был допустить, что вероятность размозжения головки новорожденного акушерскими щипцами на этот раз все-таки несколько меньше, чем когда-либо прежде.
Единственной никем не учитываемой неожиданностью была мокрая черная овчарка, что двадцать седьмого июня появилась в красноватом свете заката на влтавской набережной как раз в тот момент, когда мать Квидо грузно выползала из такси, и в коротком бесшумном прыжке прижала женщину к теплой штукатурке дома на углу Аненской площади. Нельзя утверждать, что помыслы этого бродячего пса были явно враждебными — он и не думал кусать ее; однако достаточно было и того, что пес всей своей тяжестью повис на ее хрупких плечах и дохнул ей в лицо — как позднее не совсем удачно выразилась она сама — «прогорклой вонью давно не чищенного рта».
— Аа-аа-аа! — завизжала мать Квидо, слегка опомнившись от внезапного испуга.
Отец Квидо, поджидавший жену у входа в театр «На забрадли»,[3] услыхал крик и опрометью бросился на помощь. Хотя он и не был уверен, кому принадлежал этот искаженный страхом голос, однако у него вдруг зародилось странное подозрение, которое необходимо было тотчас развеять.
— Ааа-ааа-ааа! — завизжала мать Квидо еще пронзительнее, так как пес передними лапами буквально молотил ее по хрупким ключицам. Подозрение отца Квидо, к сожалению, подтвердилось. На миг он застыл, парализованный какой-то неведомой силой, но затем, опамятовавшись, кинулся на самый что ни есть дорогой для него голос. Исполненный любви и гнева, он несся по гранитной мостовой площади, полагая, что его жена подверглась нападению одного из тех выпивох, которых она — с тех пор как сыграла официантку Гетти в уэскеровской «Кухне»,[4] — вместо того чтобы осторожно обходить, старалась в чем-то переубеждать. Однако он тут же увидел, как его жена пытается из последних сил стряхнуть с себя огромную черную тяжесть, навалившуюся на ее слабые плечи, и, не долго думая, совершил поступок, вследствие которого в глазах Квидо раз и навсегда перерос свои сто семьдесят два сантиметра: он схватил на бегу урну, высоко вскинул ее и, ударив собаку днищем, уложил на месте.
Позже мать Квидо утверждала, что урна была полной, хотя это, пожалуй, довольно легко можно и опровергнуть. Занятнее другое: на сознательное участие во всей этой истории претендовал и сам Квидо.
— Разумеется, я не отрицаю, что был тогда, как и любой другой плод, вероятнее всего, слепым, — рассуждал он позднее, — однако каким-то образом я, несомненно, воспринимал мир, а иначе как объяснить ту особую растроганность, какая охватывает меня, когда я наблюдаю за работой мусорщиков?
Очевидно, в стремлении превзойти Льва Толстого, чья память, по некоторым свидетельствам, простиралась до первых младенческих лет, Квидо заходил еще дальше: своему младшему брату, например, спустя годы он стремился внушить — с серьезностью, в которой было нечто поистине леденящее, — что способен отчетливо представить себе этот «по-рембрандтовски потемневший образ материнского яйца, прилепившегося к слизистой оболочке матки наподобие ласточкина гнезда».
— Господи, Квидо, ну ты и ловок трепаться.
— За исключением этого инцидента с собакой, период беременности, надо сказать, для любого мало-мальски интеллигентного плода — немыслимая тягомотина, — невозмутимо продолжал Квидо. — Особо подчеркиваю — для интеллигентного плода, а уж конечно не для голых, оцепенелых пещерных протеев, каким, кстати, был ты, причем даже спустя несколько дней после своего рождения, когда мне, увы, пришлось-таки взглянуть на твою гнусную фиолетовую физиономию. Ты хотя бы можешь