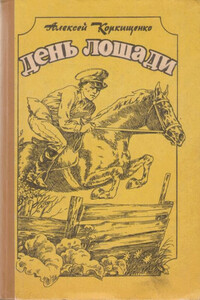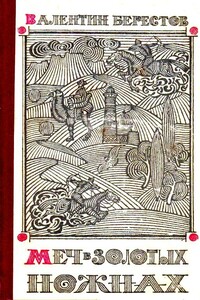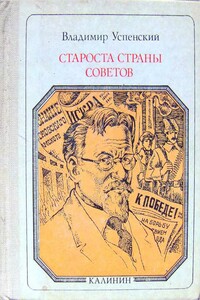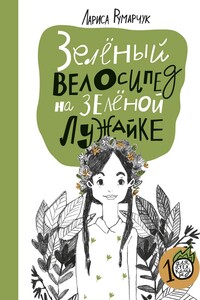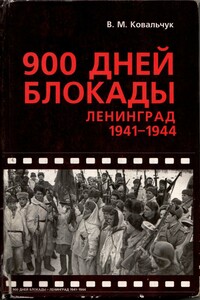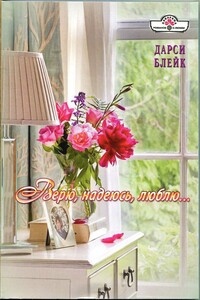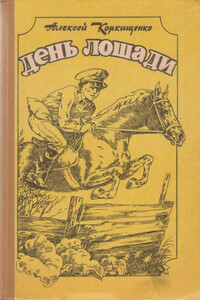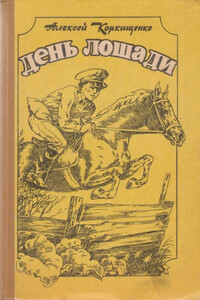День лошади (вместо предисловия)
Уважаемый друг! Уведомляю Вас, что в этом году, по решению президиума нашего содружества, День лошади будет проводиться в расширенном масштабе. В празднествах примут участие новые члены содружества из соседних хуторов и станиц: пятеро пенсионеров-коневодов, два кузнеца, около взвода бывших бойцов 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса, генерал в отставке и другие. Ожидается гость из столицы — крупный писатель, наш земляк, почитающий лошадей.
Приезжайте, уважаемый друг! Исполните свои секретарские обязанности.
Вот такое письмо я получил на днях из хутора Александровского от президента содружества почитателей лошади Зажурина.
В рыцари лошади я был посвящен в один из чудеснейших дней своей жизни. И произошло это так.
Как-то осенью, выполнив редакционное задание в одном из колхозов нашей области, я возвращался к полустанку пешком. Шел по вилючей тропинке вдоль речки.
День был ясный, свежий, шагалось легко. Подогретые полуденным солнцем, оживали кисловатые ароматы прибитых заморозком трав, и все щедрее сочилось прохладной синевой глубокое небо; краски земли под ним всё больше густели, становясь насыщенней и контрастней: вспаханные поля на склоне бугра за речкой были темно-фиолетовы, тихо облетающие сады и лесополосы — ярко-оранжевы, пестры, а ровные раскущенные озими в их обрамлении были очень зелены, просто сияюще изумрудны и прекрасны до теплой душевной дрожи.
Синицы-пастушки качались на голых бодылках, словно поздние осенние цветы, и жалобно цвинькали, грустя по лету. А где-то в желтых камышах посреди речки тоскливо, безнадежно кричал дикий гусь, отбившийся от стаи.
Я вышел к хутору, тянувшемуся вдоль речки. На пустых огородах и в полуобнаженных садах мальчишки жгли костры, и я жадно принюхивался к дымку, стекающему к речке. Привкус у дымка был дразнящий, сладковатый и терпкий, и голова легко кружилась, хмелея от него. Все эти запахи, звуки и краски позднего бабьего лета вливались в меня, как потоки долгожданного дождя в сухую, порванную трещинами землю.
На краю хутора я остановился: среди зарослей бузины и чертополоха стояла конюшня. Над ней в безветрии тихо шумели старые осокори. Спелые листья раскачивались, как золотые маятники, отсчитывая последние часы бабьего лета. Я стоял, прижимая ладони к сердцу, оно стучало невпопад — «шарахалось», в ушах шумело: меня словно бы на фантастической машине времени вернуло в детство. Была в нем и такая же конюшня, с подпорами с боков, с помутнелыми от времени окошками, с кронами старых осокорей над прелой камышовой крышей, продырявленной воробьями; и было такое же оранжевое полуденное солнце и очень синее и прохладное небо, которое казалось еще более синим и густым между белыми ветвями осокорей. И были лошади…
Скособоченная конюшня сияла ослепительно белой известкой, отбирая глаза: стены, видно, ею мазали совсем недавно — они еще не были тронуты дождями и не успели порыжеть от солнца.
В конюшне жили лошади — я еще издали услышал запахи жилого лошадиного помещения. Когда вошел туда, мои глаза, ослепленные известковой белизной, не сразу привыкли к сумраку — сквозь окошки мало света проникало внутрь. Лошади (их было около десятка) стояли у яслей, ели овес. В детстве я привык разговаривать с животными, особенно с лошадьми — я их любил смалу и работал с ними не один год, — ну, и сейчас заговорил:
— Здравствуйте, милые! Как живете-можете?
Они оглядывались, фырча и роняя овес, снова тыкались мордами в ясли. Но одна, высокая, долго с интересом смотрела на меня. Приглядевшись, я увидел в ее глазу отражение дверного проема и себя в нем — темным силуэтом.
Длительное внимание лошади к какому-либо предмету или существу всегда поражало меня, немного пугало — я задумывался над этим с детства и приписывал лошади свойства чисто человеческие. В том, что лошадь существо умное — уточняю, — разумное и понимающее наш язык, — мне приходилось убеждаться много раз. Конечно, лошади бывают разные, как и люди…
Я погладил высокую лошадь. Она тихонько заржала, отвечая на ласку, и коснулась моей руки бархатисто-мягкими губами, дохнув на нее влажным теплом.
— Ах ты умница! Здороваешься? Понимаешь человеческий язык, а? — Она кивала, а я поглаживал ее и еще что-то ласковое говорил, уж не помню теперь, что именно.
Кто-то деликатно покашлял за моей спиной. Я обернулся и только теперь разглядел в темном углу на сене трех мужчин, одетых и настроенных празднично. Они полулежали вокруг скатерти, на которой располагались куски хлеба, соль в солонке и грудочки сахара.
— Уважаете лошадей, товарищ? — приподнявшись, спросил одноногий. Отстегнутый протез валялся в стороне. Владелец его, видно, расположился здесь надолго.
— Чего спрашивать?.. Раз человек поздоровался с лошадью, значит, уважает эту животную, — укоризненно сказал старик.
Мне было неловко: при свидетелях я бы вряд ли стал разговаривать с лошадьми. Пробормотав «извините, что помешал…», хотел было уйти, но помешкал — в репликах людей не было насмешки, а было понимание, сочувствие. И я сказал: