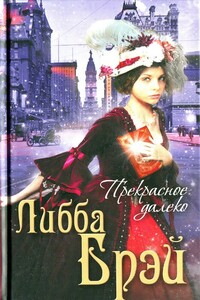Всякий город – призрак.
Новые здания вздымаются на костях старых, так что каждая сияющая стальная балка, каждая кирпичная башня хранит в себе воспоминания прошлого – стаю эдаких архитектурных привидений. Иногда эти прошлые воплощения города вдруг мелькнут перед глазами в странном повороте улицы или в филигранных воротах; в древней дубовой двери, глядящей с современного фасада; в табличке, напоминающей, что здесь когда-то было поле битвы, которое потом превратилось в бар, а потом, представьте себе, в парк.
И под землей – все то же самое.
Город растет и ниже улиц. Рельсы вгрызаются в Бруклин, в Квинс, в Бронкс. Тоннели сокращают расстояние между возможным и невозможным – слишком уж много народу нужно доставить из пункта А в пункт Б, так что амбиции города не заканчиваются на уровне земли. Вой отбойных молотков и лязг мотыг серенадами славят работяг, без устали долбящих камень для нового рукава подземки. Пот намертво приштукатуривает к людям каменную пыль, слой за слоем, – так что и не скажешь, где заканчивается человек и начинается мрак. Молот то откусывает породу по кусочку – тяжкая это работа, монотонная, – то вдруг слишком быстро проламывается сквозь скалу.
– Глядите! Скорее глядите!
Целая земляная стена рушится на глазах; рабочие кашляют и кашляют, задыхаясь в спертом воздухе. Один, ирландец по имени Патрик, из иммигрантов, вытирает взмокший лоб грязным рукавом и таращится в громадную дыру, оставленную буром. На другой стороне высятся ворота из кованого железа, насквозь проржавевшие – один из призраков минувших времен. Патрик светит сквозь прутья ручным фонариком, и ржа вдруг вспыхивает цветом, будто высохшая кровь из старой раны.
– Я – туда, – говорит он и ухмыляется остальным. – Может, там есть чем поживиться.
Он хватается за створку и тянет, и ворота с визгом открываются, и вот в забитую пылью нору, в забытый кусок городского прошлого уже набивается целая толпа. Ирландец аж присвистывает, когда луч фонаря принимается скакать по залу, похожему на склеп, высвечивая то деревянные панели, посеревшие от паутины, то мозаику изразцов, почти неразличимую под наслоениями сажи, то люстру, опасно болтающуюся на оборвавшейся цепи. Наполовину погребенный под кучей земли, рядом стоит вагон. Колеса, ясное дело, неподвижны, но выглядит он в темноте так, что кажется, будто слышишь слабый вой металла, трущегося о металл, словно до сих пор висящий в здешнем законсервированном воздухе. В луче света поблескивают рельсы, убегающие назад, в мертвый тоннель. Люди подтягиваются ближе и вглядываются во мглу – это как глядеть в отверстую пасть ада, где рельсы вместо языка. Тоннель уходит в бесконечность, но тьма своих тайн выдавать не расположена.
– И что у нас там такое? – спрашивает вполголоса Патрик.
– Подпольный бар с бухлом, – говорит другой рабочий, Майкл, хихикая.
– Шикарно. Я бы, пожалуй, уговорил стаканчик, – балагурит Патрик, пробираясь внутрь и все еще надеясь на какой-нибудь забытый клад.
Остальные тянутся за ним. Все они – незримые труженики города, его зодчие, сами подобные призракам – чего им бояться тьмы?
Один только Сунь Ю мнется на пороге. Темноту он на самом деле ненавидит… но работа ему нужна, а когда ты китаец, работа на дороге не валяется. Он и так-то сюда попал только потому, что делил конуру без горячей воды с Патриком и еще несколькими парнями у себя, в Чайнатауне, и ирландец замолвил за него словечко боссу. Не стоит лишний раз привлекать к себе внимание… так что он тоже лезет в дыру. Пробираясь через кучи осыпавшейся земли и кирпича на путях, он вдруг обо что-то спотыкается. Патрик рыщет по рельсам фонариком и высвечивает прехорошенькую музыкальную шкатулку с заводной ручкой сверху. Он поднимает игрушку и невольно любуется работой – таких уже больше не делают. Он поворачивает рычажок на цилиндре, и изнутри тренькает нота за нотой. Патрик это уже явно слышал, песенка из старых, да вот только никак не вспомнить…
Он подумывает взять шкатулку с собой, но почему-то кладет назад.
– Давайте-ка глянем, что тут еще за сокровища спрятаны.
Патрик рыщет лучом во все стороны – и тот вскоре натыкается на костяную ногу. Под закругленной стеной лежит высохшее тело, почти сожранное гнилью, крысами и временем. Разговоры тут же стихают. Все молча таращатся на клочья волос, истончившихся до подобия сахарной ваты, на рот, раззявленный, словно в последнем крике. Несколько рабочих крестятся. Конечно, они многое оставили позади, чтобы приехать в эту страну, но за любимые суеверия обычно держишься до последнего.