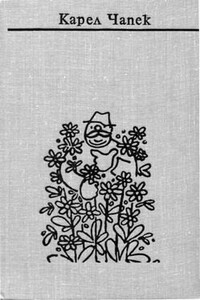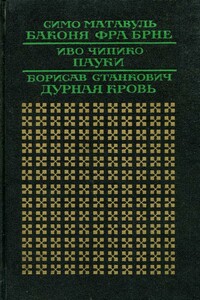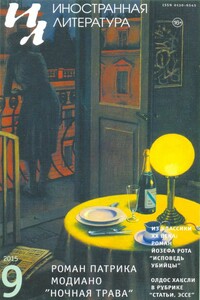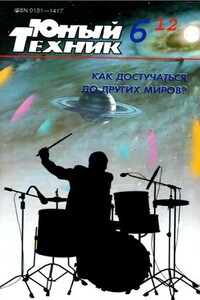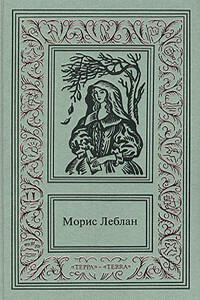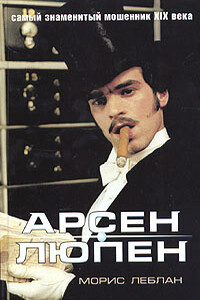Морис Леблан
Литературный дебют
В нашей прекрасной профессии литератора есть один вопрос, который мне всегда казался достойным особого внимания и по поводу которого я часто расспрашивал своих коллег: «Как и вследствие чего вы осознали, что вам предназначен жребий журналиста или писателя?»
Ведь не садятся же в момент внезапного вдохновения за стол, говоря:
— А ну-ка, не написать ли мне статью, или повесть, или роман?
Нет, сначала все пачкают много бумаги, прежде чем поймут, что это попытки писательства. Все те, кто не жил в особой среде журналистов и литераторов, кто не испытал с детства чувство, которое можно назвать профессиональной заразой, переживают долгий и смутный период высиживания, которого не замечают самые проницательные глаза. Не осознавший себя проделывает скучную работу, которая выражается сперва в школьных упражнениях, а затем прерывается, исчезает в массе житейских потребностей и, через много-много лет, заставляет какого-нибудь студента-юриста, какого-нибудь молодого коммерсанта, политехника или клерка у присяжного поверенного бросить нелюбимое ремесло и сесть за стол, говоря:
— А ну-ка, я столько напачкал бумаги за все время… А что, если случайно?..
Когда я покончил с военной службой и провел полтора года за границей, мой отец, которому я предоставил полную свободу в выборе мне занятия, сам не чувствуя никакого определенного призвания, сказал мне:
— Ну, вот. Дело сделано. Ты знаешь наших дорогих друзей Мируд-Пишаров? Ты поступаешь к ним на будущей неделе. Это одна из первых фирм в Руане по изготовлению кард. Сначала ты будешь проходить стаж, потом будешь пайщиком, потом компаньоном. Дорога открыта.
Я не имел ни малейшего понятия о том, что такое карды, и должен признаться, что мой стаж меня мало просветил в этом отношении.
В громадных мастерских маленькие шумные и быстрые машины грызли длинные кожаные ремни, которые выходили дальше унизанные тоненькими уголками. Операция, которая сразу же мне показалась непонятной. Тайна, которую я никогда не смог разгадать, как это происходило? Для чего это было нужно?
При всем моем желании я никак не мог ни заинтересоваться этими вопросами, ни возбудить в себе малейший интерес к ним. И я сохранил бы от моих технических занятий далеко не радостное воспоминание, если бы не было в одном из закоулков фабрики, на чердаке, уединенной мансарды, в которой для меня устроили умывальную. Я там проводил большую часть времени. Кресло. Бумага. Карандаши.
Вместо стола собственные колени. Вместо горизонта квадратный кусок неба, очерченный слуховым окном. И вот полился поток поэм, новелл, литературных опытов, анекдотов, исповедей, описаний. Я не замечал больше быстрого щелканья маленьких машин, хотя они были совсем близко. Фабрика с ее шумом исчезла куда-то. Маленькая группа рабочих рассеивалась как пустые призраки. Я был счастлив. Я писал… писал…
Один-единственный звук стряхивал с меня это опьянение, возбуждавшее меня, как вино, которое я как будто бы пил, сам не зная, что пью: это происходило, когда Мируд-Пишар показывался у входа во двор, который вел от его квартиры к мастерским. Один из мастеров издавал тогда легкий свист, чтобы молодой подмастерье и будущий хозяин успел вовремя спуститься с лестницы и чтобы патрон мог его застать наблюдающим и склоненным над какой-нибудь страшной механической загадкой.
Я прилагал не больше усердия и при посещении клиентов фирмы. Застенчивый, незнакомый с делами, как осмелился бы я наступать на директоров ткацких фабрик, хвалить предлагаемый товар и спорить о себестоимости? Куда проще было пойти гулять. Сколько я делал приятных прогулок по изрытым нормандским дорогам! Сколько очаровательных грез пережил я на берегу Андели или в маленьких долинах Орны! А сколько листков я там исписал карандашом!
И все же, несмотря на весь этот ворох рукописей, на все эти ожесточенные попытки писательства, благодаря которым во мне понемногу вырабатывалось сознание необходимости в более прилежном труде, в более медленной работе, мне ни одного раза не пришло в голову, что именно там, среди этих выбеленных известкой стен или на больших дорогах, я проходил мой настоящий стаж и подчинялся приказаниям, дававшим моей жизни совсем непредвиденное направление. Я писал без всякого повода и не говорил себе: «Я пишу. А раз я пишу, не следует ли предположить, что в один прекрасный день я сделаюсь писателем».
Один маленький случай пролил некоторый свет на мое сознание, один из тех маленьких случаев, которые таятся всегда в корне самых важных событий нашей жизни.
Я не стану припоминать дату, — это было в день открытия памятника в Руане, в сквере Сольферино. В этот день чествовали память Густава Флобера. Насколько я припоминаю, шел дождь. Но воспоминания, сохранившиеся у меня с того вечера, так смутны!
Я помню маленькую трибуну, сооруженную около музея, который примыкает к саду. Помню ряды стульев, толпу мужчин в черном, городских властей, парижских и других гостей. Я смутно улавливал звуки речей, в которых прославляли великого писателя. И, в действительности, в моей памяти сохранилась отчетливо только группа из четырех лиц, которые в моих глазах являлись полубогами.