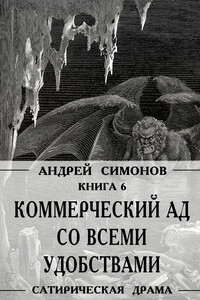Вот загадка: ни одного другого человека Степа Соловей не ощущал более чужим себе, чем своего отца.
– Что-то это мне напоминает, – сказал Соловей-старший, озираясь. – Музей советского планктона?
Он сморщил породистое лицо и чихнул от пыли. Прошелся по коридору-кишке, оклеенному табачными обоями, колупнул ногтем наклейку с выцветшей блондинкой на зеркале, постоял, уперев руки в бока, напротив чеканного панно с изогнувшей шею ланью, родом из эпохи застоя. В квартире, выставленной на продажу, отец и сын были одни.
– Потолки три двадцать, – казенным голосом сказал Степа. – Дом пятьдесят третьего года постройки, м-м, неплохой. Ремонт, как видишь, ремонт делали сорок лет назад…
– Снести все на фиг. Опен спейс.
– Это как ты захочешь. Тебе жить.
Степа сохранял вид бухгалтера, равнодушно считающего чужие деньги. Богатенький папа захотел прикупить квартиру, привлек к процессу риелтора-сына – ну, бывает. Что? Отец ищет квартиру для меня? Ни-ни, я ни слухом ни духом. Наверно, когда-то надо перестать притворяться незнающим… Не объявлять же в день совершения сделки: «А пошел бы ты со своим подарком, отец!» Угу. Прямо у нотариуса. Встать и заявить, когда гражданин Соловей-старший и гражданин продавец занесут ручки над договором купли-продажи квартиры. Было бы эффектно. А сейчас не до того, не до разъясняющих разговоров с отцом. Нет сейчас сил для сцен. Потому что все мысли – про ба… «Четвертая степень», – сказала она.
Степа уставился себе под ноги, на древний, янтарным лаком покрытый скрипучий паркет, потом перевел взгляд на мелкие, запыленные оленьи рога над входной дверью. Краем глаза он замечал, что отец смотрит на него, и как-то с прищуром, с неодобрением смотрит. Наверное, думает: хреновый мой сын риелтор, вялый, как тюлень.
– Вспомнил! – воскликнул Богдан. – Я же был здесь!
– Был?
– Не просто был, я чуть концы не отдал в этой квартире!
Степа недоверчиво хмыкнул.
– Представь себе. Было это в восемьдесят четвертом году, накануне восемьдесят пятого. Мне было двадцать пять лет, расцвет юности, а ты, соответственно, еще в пеленках лежал. Я бы даже сказал, из-за тебя все случилось, Степа.
– Из-за меня? – Степа скрестил на груди руки. – Извини, извини. Боюсь даже представить, что ж я сделал такого. В пеленках, угу.
Отец посмотрел на него с усмешкой, как на малоумного.
– Ничего криминального, только вопил и какал. Но моего товарища шурин, военный, приехал из Дрездена и привез пачку подгузников. Гэдээровские подгузники – немыслимая роскошь, в СССР их не выпускали в принципе. Я, разумеется, не мог устоять! Ухнул на них тридцать рублей. В декабре, накануне праздников. А у нас, у молодой семьи, и так с деньгами было туго. В общем, из-за твоих подгузников остались мы на мели…
Отец вышел из коридора в комнату – просторную столовую с дубовым столом на единственной бочкообразной ноге, с сервантами и книжным шкафом, наполненным сплошь собраниями сочинений. Степа волей-неволей последовал за ним. Богдан присел на край стола и, болтая в воздухе ногой в замшевом ботинке, продолжил:
– Как раз тогда мне знакомый предложил подработать. В бюро услуг штатный Дед Мороз запил, а на его красный нос было двадцать квартир записано на тридцать первое декабря. Выручай, Богдан! Я согласился. В девять утра тридцать первого загружаюсь в служебный «Москвич». За рулем – водитель, на заднем сиденье – Снегурка бальзаковского возраста, русая коса, плюс мои борода и шуба. Борода, кстати, мерзкая была, белые клочья синтетические, под ней сразу лицо стало чесаться. А шуба – красный шелковый халат на вате, классика для утренников. Ну, поехали!
В первой же квартире, не успела девочка стишок прочитать, мне предлагают рюмку водки. Я говорю: «Дедушка Мороз до полудня не пьет». А они: «Нет-нет! Если не выпьешь с нами, у нас год будет несчастливый!» Ладно, думаю, что мне будет с пятидесяти грамм? Опрокинул. В следующей квартире, только мальчик загадку отгадал, подарок получил, родители подносят портвейн. И я тебе скажу, это было далеко не то благородное порто, которое и сейчас со всем удовольствием. Нет, то была болгарская бормотуха. Но что делать? Умоляют. Я снизошел. Нанес вред здоровью. В третьей квартире – опять водка. В четвертой – рижский бальзам. Снегурочка моя пьет через раз, и только пригубливает, но взгляд у нее стал с поволокой. Я уже понимаю, что работа у Деда Мороза – опасная. Тем более что закуски особо не предлагают, максимум селедкин хвост. К часу дня я решил: хватит! Надо завязывать! А то до курантов не дотяну. Какой там до курантов – до последнего мальчика-зайчика не дотяну, двадцать квартир же сегодня. В общем, я завязал. Я стоял как кремень, говорил: у меня язва, у меня партбилет, не могу. Но то ли в десятой, то ли в двенадцатой квартире мне вынесли французский коньяк. «Мартель»… О! В восемьдесят четвертом году настоящий французский коньяк – это было нечто! Редкость – сродни голубому носорогу. Это как, понимаешь, когда я поехал лет пять назад в ту самую деревню Коньяк, в той самой Франции, алкотур, три коньячных дома за день, спаивают по-страшному, двадцать бокалов на дегустацию выставляют, и к шести вечера ты уже мягонький, тепленький, как помидор на жаре, а тут тебе подносят бокальчик и говорят: отведайте, месье, это из особых резервов, семьдесят лет, терруар, букет, винтаж, вуаля… Так, я отвлекся. Значит, восемьдесят четвертый год…