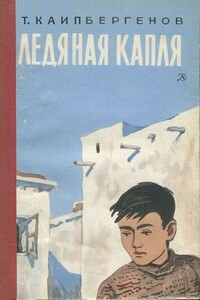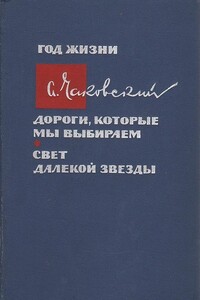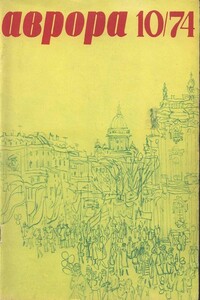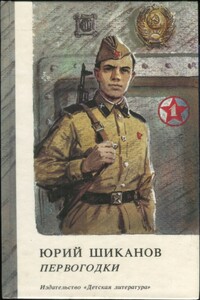ЛЕДЯНАЯ КАПЛЯ
Повесть
Перевела Д. Рашиди
1
С этим юношей — его звали Кама́лом — я познакомился в нукусской бане. Я обратил внимание на его мускулистые руки и плечи, которые он намыливал с каким-то детским старанием.
Восточная баня… О ней стоит сказать подробнее. Сюда приходят надолго, ведут беседы, пьют в предбаннике чай; а когда моешься, пар пробирает буквально до костей, и выходишь из бани будто другим человеком — помолодевшим, обновленным…
Помню, я сидел на скамье, разомлевший от жары, не в силах сразу подняться, как вдруг мне прямо на темя шлепнулась, откуда ни возьмись, тяжелая холодная капля. Неприятное ощущение! Я невольно втянул голову в плечи.
Камал глянул искоса, усмехнулся едва уловимо.
— И в жизни так вот случается, — сказал он неожиданно. — Вроде бы все хорошо, не ждешь никакой беды, и тут на голову тебе упадет не то чтобы холодная, а ледяная капля…
Я ждал, что юноша продолжит свою речь, но он умолк и глубоко задумался. Красивое лицо его помрачнело.
Выходили мы вместе. Я заметил, что парень острижен наголо, но это нисколько его не портило. Едва пробившиеся усики подчеркивали выразительную линию губ.
Заинтересованный его неожиданными словами, я задал несколько незначительных наводящих вопросов, но он, шагая рядом, отмалчивался.
Мне показалось, что он никуда не торопится, и я предложил зайти в ближайшее кафе вместе пообедать.
— Нет-нет, спасибо, — извинился он. — Я и так задержался. Ведь я призывник. Приказано явиться к двум…
Я взглянул на часы: без нескольких минут два. Неудобно получилось — заболтались, а парень опаздывает. К счастью, из-за угла показалось свободное такси… Мы ехали по новой улице, мимо строящихся многоэтажных зданий, сквозь аллею молодых деревьев.
Юноша произнес с легкой усмешкой:
— Три года незаметно пройдут, правда? Вернусь — пожалуй, и город свой не узнаю при таких-то темпах…
До военкомата доехали за несколько минут и сразу услышали звуки гармошки, дружные хлопки. Мы вышли из машины, с трудом пробились через толпу. Камал подвел меня к старушке лет восьмидесяти в накинутом на голову белоснежном платочке. Рядом с ней стояли женщина в красном полушалке и девушка.
— Моя бабушка… мама… невеста… — представил мне их Камал.
Начался митинг. Выступали военный комиссар, секретарь областного комитета комсомола. Затем комиссар объявил:
— От имени старшего поколения выступит Бибизода́ Наза́р-кызы́.
Стоявшая рядом с нами старушка в белом платочке, постукивая палкой, направилась к трибуне. Люди расступались перед ней. Я взглянул на Камала. Он сиял.
Старая женщина медленно поднялась на трибуну. Платок соскользнул с ее головы, прядка седых волос затрепетала на ветру.
— Дети мои, — произнесла она. — Я стояла вот здесь, на такой же трибуне, двадцать лет назад. Тогда я благословляла своего сына, сегодня благословляю вас, внуков моих…
Седовласая женщина говорила о фашизме, о былых кровопролитиях и женских слезах, о мирной жизни, о молодежи, которая уезжала сегодня оберегать эту жизнь.
Речь ее несколько раз прерывали аплодисментами.
Потом капитан бережно помог старой женщине спуститься по шатким деревянным ступеням трибуны. Прозвучала команда строиться.
Камал взял из рук невесты свою военную сумку, вынул прошитые нитками две тетради и, неожиданно протянув их мне, сказал:
— Ведь вы писатель, да? Возможно, вас заинтересует что-нибудь из моих записей…
Дома я раскрыл тетради Камала и начал читать.
2
«…Однажды мама, заметив мое тоскливое настроение, сказала мне: „Сынок, ты же грамотный. Заведи дневник, это облегчает душу, когда ее переполняет горе“.
Как нужен был мне человек, который не пожалел бы для меня времени и выслушал внимательно, а я в слезах, не стыдясь своей слабости, смог бы поведать о свалившейся на меня беде.
Но в семье нас было только двое: мама и я; мамина доля в общем нашем горе была не меньше моей…
Мама у меня почтальон, зовут ее Гульджа́н. Отца моего звали Джама́л. Говорят, он работал колхозным счетоводом.
Когда я пишу имя своей мамы, я готов каждую букву начертать заглавной; если же приходится писать имя отца, то даже первую, заглавную, хотелось бы заменить строчной. Жаль, что такое нельзя делать — пожалуй, законы грамматики тут излишне суровы…
Сейчас мы живем в Нукусе. Есть ли на земле город красивее? Должно быть, есть, но я этого не представляю. Ведь каждому свое, родное, кажется и самым прекрасным.
Раньше мы жили в колхозе имени Первого мая. Мама и там работала почтальоном. Первое, что я припоминаю, — себя у нее на спине, всегда рядом с черной сумкой. Устав, мама опускала меня на землю, но я ни за что не хотел идти, плакал. И бедная мама, жалея меня, снова сажала себе на спину.
Хорошо нам было вдвоем! Я особенно остро почувствовал это, когда начал учиться в школе. Беда обрушилась на меня неожиданно: мама ни о чем не рассказывала — видно, духу у нее не хватало. А теперь, едва в классе произносилась моя фамилия, я готов был сквозь землю провалиться.
…В кино я, как и все остальные мальчишки, страдал, если падал сраженным наш солдат, кричал „ура!“ и подбрасывал кепку вверх, если валились замертво враги. А сам исподтишка озирался: не сомневается ли кто-нибудь в моей искренности? Потом я долго ходил подавленный, а обложки своих тетрадок упорно надписывал с маленькой буквы. Учитель, не подозревая о моих муках, постоянно исправлял первую букву моей фамилии красным карандашом.