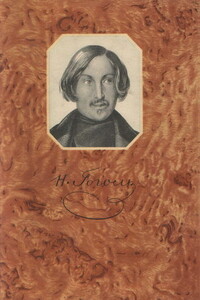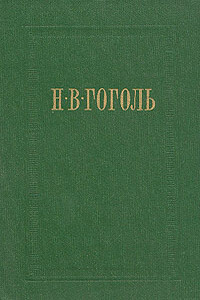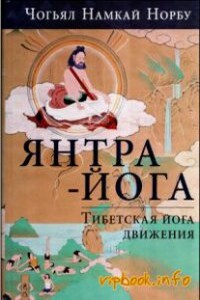…вросши плечом, ногами в скалу, Сергей Невраев зачарованно смотрел на лавинный вал, налетавший сверху, на венчающий его радужный, с каждым мгновением вздымающийся выше, шире, пышнее ореол, смотрел на кинувшуюся было назад по снежнику фигурку Жоры Бардошина и, как неукротимо несущийся вал, взбрасывая, словно играя, буруны снега, настиг Жору. Мстительное удовлетворение на мгновение захватило Сергея. «Есть, есть на свете справедливость! Вот она! Совершается…»
Сильный рывок веревки, соединявшей с Жорой, едва не сдернул его со скалы. Откинувшись назад, упираясь ногами в спасительную каменную твердь, Сергей стравливал веревку. Непомерной тяжести потяг — стравливал, подтормаживая и сжигая веревкой спину; сдерживал, весь отдавшись этому противоборству, в котором, не отдавая себе отчета почему, не мог уступить; и услышал сквозь рев ослепляющего, останавливающего дыхание снега откуда-то, очень, казалось, издалека: «Веревку… Отстегни. Карабин! Открой карабин… Сорвет!..» Не сразу признал в визгливых, истошных криках, словно с запущенного на высокой скорости магнитофона, голос Воронова:
— Веревку!.. Отстегни вере-о-овку-у!.. Ка-ра-би-ин… откро-о-ой!
Сознание не приняло спасительных команд. С еще большим, отметающим любые здравые доводы страстным упорством удерживал Сергей Невраев захваченного лавиной Жору. Белый непроглядный вихрь, буря, ураган со всех сторон… И неодолимой силы потяг веревки. Напрягся каждым мускулом, всякой жилкой, нервом; ничего нет — ни удушающего снега вокруг, ни ужаса перед уносящимися последними метрами веревки, ничего, кроме остервенелого сопротивления, в котором слились его гордость, его тоска по любви, ревность и теперь еще — невозможность, немыслимость бросить этого человека на произвол лавины…
Давно пытался я найти отгадку или, скажем иначе, понять, разобраться в природе того, что мы в простоте душевной именуем легко и привычно «самопожертвование», «мужество». И вот эта история. Знал и прежде некоторых ее участников, встречался в горах на Кавказе, в Москве. Потом сдружился с одним из них, самым юным, — критерии возраста, тем более юности, весьма условны, пусть останется это слово — юный. Замечу кстати, не сразу возникло между нами то, что с удовлетворением и надеждой называю: дружба. Поначалу как раз с ним, с Пашей Кокарекиным, никак не ладились отношения, может быть, еще и оттого, что недоверие и упорное молчание были ответом на не всегда ловкие мои вопросы. И немудрено…
Был отработан первый вариант рукописи, достаточно близкий по внешнему рисунку к тому, что известно о случившемся. Но внутренний нравственный кризис и его одоление — не это ли все-таки главное? У литературы есть определенные преимущества перед любым, пусть самым доскональным расследованием: возможность проникнуть в характеры, обрисовать, понять и изобразить внутренние, причинные связи. Факты — штука упрямая, давно известно, так не лучше ли, не поучительнее ли увидеть их не старательно выстроенными по ранжиру, но в сложной и противоречивой действительности, истоки которой многое в состоянии прояснить, более того — подсказать.
И снова «вечные» вопросы: что значит совесть, где начинается предательство и откуда все-таки доброта? Или тут другое, куда более сложное, так что незачем, упрощая, рядить в белые одежды милосердия? И это-то другое и заставляет перешагнуть через собственную беду, и ненависть, и боль?
Да, в который раз с согревающим душу удовлетворением приходится признать, да, честь, благородство, самопожертвование живы; с новой властной силой раскрываются они в хитроумных и не всегда явных столкновениях, которыми изобилует жизнь, хотя и не обязательно побеждают. Но след их, куда бы потом ни повлекли события, глубок и благотворен.
Впрочем, не довольно ли предвосхищать дальнейшее?
Ущелье темно и молчаливо. Поток, укрытый туманом, успокоенный ночью, глухо ворчит, пробираясь между камней. На высоком обрывистом берегу сереют палатки да два-три домика угадываются среди деревьев. Дальше все тонет в лесной кромешной тьме. Людей не видно, люди спят.
Неширокий просвет неба сплошь усыпан звездами. Тихо сияют они над землей, далекие, безразлично покойные. Горы подняли в фиолетовую бездну свои остроконечные вершины. Туманно светящийся шар луны с четко вырезанным слева золотым серпиком коснулся одной из вершин и медленно скрывается за нею. Звезды, кажется, наклоняются ниже, шепчут о чем-то… Окованные холодом вершины мерцают в ответ зеленоватым призрачным светом.
Дежурный распахнул палатку. Луч карманного фонарика скользнул по раздутым от поклажи рюкзакам, спинкам кроватей, мотку оранжевой альпинистской веревки на табурете, заиграл на лезвиях ледорубов. Дежурный включил лампочку на коньке палатки.
— Как погода? — Сергей Невраев разлепил склеенные сном веки, подержал открытыми, не давая себе уснуть снова. Начал одеваться.
— Вставай, вставай, нечего разлеживаться! — Дежурный воевал с Пашей Кокарекиным.
— Погоди, сейчас… — И с головой юркнул под одеяло. Предутренний сон сладок, так не хочется расставаться с теплом постели.
Дежурный свои обязанности исполнял всерьез. Не новичок в горах и не так чтобы совершенный керосинщик, как по старинке называют тех, кому одна забота — приятно время провести. Вынашивает в сладких грезах некие чрезвычайные штурмы и небывалые траверсы. Только где физию успел сжечь, третьего дня приехал, а разволдырявился, будто в горных высях на каком-нибудь распрекрасном снежном плато пол-отпуска на лыжах провертухался. «Может, на Черном море?» — переводил ближе к делу смекалистый Паша — и прямо в точку. Одесское солнышко на одесском пляже пусть не чета горному, а все равно рыжие тотчас подгорают. Только дальше, увы, ничего занимательного. По крайней мере, для постороннего человека. Всего-навсего на симпозиуме был; о разных биологических знаменитостях взахлеб, о докладе, сделанном таким-то, и содокладе такого-то. Паше, которого, несмотря на молодые годы, чаще зовут по имени-отчеству, Павлу Ревмировичу, может, и к чему — журналист, хотя и по спортивной тематике больше, да ведь кто знает, куда еще фортуна повернет. «Забурели в своих «ящиках»! — помнится, ораторствовал Рыжий. — А наука наша, молекулярная биология, еще шажок всего — и никакие эволюции, никакие искусственные, а тем более естественные отборы не понадобятся!..» В пояснение швырял столь заковыристыми словами и предложениями, что на трезвую голову нипочем не понять.