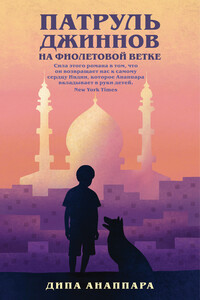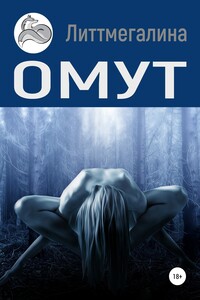Декабрь 1940 года в Таллине выдался на редкость солнечным — во всяком случае, для капитана Николаева. Несмотря на то что служба занимала двенадцать, а то и шестнадцать часов в сутки, он, родившийся и выросший в орловской деревеньке, был в восторге от города, от его узеньких кривых улиц, старых домов, которые выглядели лучше новых, от ощущения опрятности и чистоты, от запахов кофе и сдобы. В редкие свободные часы, гуляя по городу, он чувствовал себя рыцарем, освободившим сказочное королевство от злобного дракона.
К приезду высокого начальника из Москвы Николаев подготовился настолько хорошо, насколько это возможно: привел в образцовый порядок служебные дела, зарезервировал лучший номер в гостинице. Оставалось одно — найти подарок. Оно, конечно, служебные отношения не должны пачкаться подношениями, но личный дар от всего сердца еще никогда и никому не вредил. Тем более если подарок будет сделан не самому начальнику, а его семилетней дочке, в которой начальник души не чаял.
Подарок Николаев подобрал безупречный: куклу. Но не простенькую, из папье-маше или целлулоида, а ту, что сама по себе является произведением искусства и стоит преизрядно. На знатока кукла. А что начальник оценит подарок у знатоков, Николаев не сомневался.
Куклу — большую, с трехлетнего ребенка, — сделал старый кукольник Франц, живущий в предместье Таллина, Кадриорге. Он, этнический немец, не спешил уезжать в фатерлянд, говоря, что там вряд ли сейчас интересуются куклами. Кукольник проходил по одному из дел, расследованных капитаном Николаевым, и был оставлен «на карандаше», но зато и на свободе.
Кукла не только была потрясающе красива — она умела говорить «Ах, муттер!» и выводить перышком «С Рождеством Христовым!» на осьмушке листа, после чего посыпать написанное песочком из кукольной песочницы. Франц утверждал, что при надлежащем уходе кукла будет жить (он так и сказал «будет жить») сто лет и больше. В его собственной коллекции когда-то были куклы времен реформаторских войн, но нужда заставила распродать их.
Получив куклу, Николаев попросил мастера открыть корпус и осторожно и тщательно осмотрел ее: мало ли, вдруг внутри адская машинка. Но там были лишь шестеренки, пружинки и прочая машинерия. Успокоенный, капитан положил куклу в футляр, который тоже был произведением искусства: снаружи красное дерево, внутри черный бархат, а петли, уголки и рукоятки из фигурной бронзы. Домой футляр он вез на коленях и сам, не доверяя шоферу, занес его в квартиру, где и положил в углу за столом кабинета. Прежде тут жил какой-то профессор-националист, и мебель после него осталась реакционная — прочная и тяжелая, так что никакая случайность подарку не грозила.
Ночью сквозь сон — капитан засыпал скверно и потому взял в привычку принимать на ночь стакан-другой водки — ему слышались легкие шаги, шелест бумаг, стук упавшей ручки. Он вышел из спальни и заглянул в кабинет. За столом находилась кукла! Она спокойно взглянула на капитана, в ее стеклянных глазах, сделанных с высочайшей степенью достоверности, вспыхнул красный огонек, и Николаев погрузился в новый сон. Новый — потому что поутру, припомнив случившееся, капитан пришел к выводу, что все ему, разумеется, пригрезилось. И как иначе — кукла ведь по-прежнему пребывала в футляре, а папки с делами были по-прежнему заперты в специальном ящике-сейфе письменного стола. Просто эстонская водка русской голове непривычна, вот и мерещится всякое. Объяснение рациональное и потому верное.
Начальство приемом осталось довольно, осталось довольно и подарками.
Служба шла своим чередом.
Спустя два года начальник Николаева был обвинен в шпионаже в пользу Германии. Улики казались неопровержимые, и оборотень понес заслуженную кару. Превратности карьеры привели к тому, что Николаев контролировал дело. Внимание его привлекли следующие детали: бывший начальник обвинялся в том, что передавал важнейшие сведения резиденту немецкой разведки. Сначала он категорически отрицал свою вину. Тогда были предъявлены доказательства: копии важнейших документов, посланные резиденту обычным письмом и перехваченные бдительным цензором. Пишущая машинка, на которой была отпечатана копия, была идентична той, что находилась в домашнем кабинете начальника — об этом с уверенностью заявляла экспертиза.
Но Николаева заинтересовало другое: показания Лели П., дочки начальника. Леля утверждала, что письма эти печатала кукла, она же помещала их в конверты и приказывала девочке бросать их в почтовый ящик. Девочка не смела ослушаться куклу, которую и любила, и побаивалась.
Разумеется, ее показания не были приняты во внимание: мало ли что скажет девчонка-первоклассница.
Но Николаев (к тому времени он был переведен в Москву) не поленился посетить детский дом, в который после процесса поместили Лелю. Та подтвердила свои показания. По ее словам, кукла в отсутствие взрослых разговаривала, ходила по комнатам, заходила в папин кабинет, смотрела бумаги и печатала на машинке. Леля пыталась рассказать об этом родителям, но те отнеслись к ее словам как к вздорной фантазии.