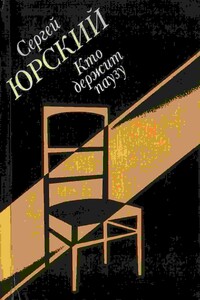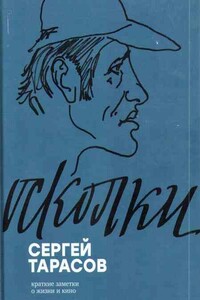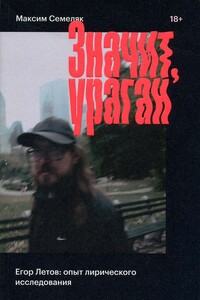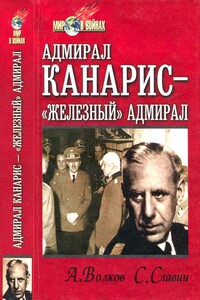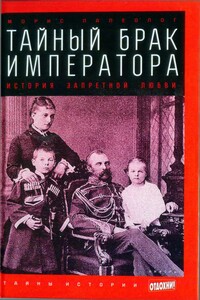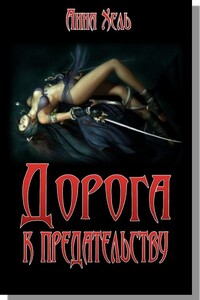ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. В поисках радости
Смотрю в темноту. Тихо. Не как в лесу, не как на море, не как ночью в пустом доне. Другая тишина, другая темнота. Лес живет сам по себе – шелестит, «окрикивает птицами, шуршит, набухает. Ему нет дела до тебя; хочешь – думай, хочешь – нет, хочешь – уходи, хочешь – оставайся. Крикни – и не впитывается звук, загремит, равнодушно подхваченный эхом, запрыгает, как плоский камешек по воде – бляк» бляк, бляк, – и утонет. Еще крикни – и опять то же. И снова лес похрустывает, постанывает, посапывает. Хочешь – кричи, хочешь – замолчи. И море так. И пустой дом так. Ты свободен, потому что не нужен.
Другая тишина и другая темнота. Ждет. Обязывает. Всасывает. Тянет в себя, потому что ты не в ней, ты на свету. И мысленно представляешь и ощущаешь воображением, как хорошо тебя видно из темноты, как весь ты на виду. И какая-то дрожащая жилка внутри подсказывает – уйти, быть там, в темноте, среди многих. Но ты не уйдешь. Нельзя, Темнота держит тебя под прицелом двух тысяч глаз и ждет. Ты нужен ей. Здесь, на свету. Ты не свободен, ты обязан. Скажи шепотом – и будет слышно, впитается. Свободы нет, но есть освобождение. Путь к нему. К освобождению от этой зависимости и требовательности. К освобождению от собственной потребности, которая застав ила выйти на свет.
Тишина напряглась до предела. Ты не только связан, ты хочешь. Ты готов?
Действуй, говори?
Это театр. Это редкие минуты, о которых суеверно не рассказывают актеры, но о которых помнят и которых ждут. Это минуты, ради которых ходят и будут ходить в театр зрители. Это одно из выражений веры во всемогущество человека, это потребность людей друг в друге. Это откровенность. Непреодолимое радостное тяготение. Ощущение силы. Предчувствие. Прозрение. Это как... как любовь? Как открытие? Как сон? Как спорт? Как жизнь?.. Да нет же, это другое.
Это театр,
...Тысяча девятьсот сорок второй год. Война. Я смотрю первый в своей жизни драматический взрослый спектакль. Мне семь лет. Мой папа – художественный руководитель театра, постановщик спектакля, и поэтому я смотрю дневной прогон и пустом зале. Пьеса «Роковой час».
Как все мои ровесники, я много повидал к своим семи годам. Вместе со взрослыми я пережил черный день начала войны: она застала нас на курорте, в Сочи. Ослепительное солнце, волны, а на севере, дома, – война. Все было особенно контрастно и неестественно, Смерть близкого человека – полковник Кулышев, дорогой дядя Сережа» погиб в первые дни войны под Киевом. Остальные близкие – в Ленинграде, в блокаде. Эвакуация. Холод, и жизнь без жилья, и переполненные поезда, которые тянутся неделями. Я видел и пережил все, что положено было тыловому ребенку. Я мечтал о мести и о фронте. И десятки раз, тайком перелезая через высокую стену киношки, смотрел военную хронику и военные фильмы. И видел на экране сам бой, и саму войну, и саму смерть.
И вот теперь я сижу в пустом зале. В темноте. И на сцене в неестественной комнате, где матерчатые стены ходят ходуном, когда открывают дверь, три русских эвакуированных актера, сильно загримированные. разыгрывают драму норвежской семьи. Я мало что понимаю. Я не понимаю до конца любви, ревности, женской измены, не понимаю политических разногласий, наверное, не понимаю даже, что один из трех – фашист: ведь он не немец, и не в военной форме, и без оружия. Но я смотрю неотрывно. Ощущаю, впитываю драму сквозь непонимание. Вот что я помню.
Однорукий человек вернулся (с войны? из плена? – не понял). Он дома. Но дом изменился. Ему не рада женщина, к которой он пришел. И еще один человек тоже не рад ему. Этот, второй, – враг однорукого. Но одноруким ничего не может сделать. Он слабее, и потом – он однорукий, И потом – их двое, и он один, и поэтому ему очень грустно. Он предлагает женщине потанцевать. Она отказывается. Он говорит:
«Ну что же, тогда я буду танцевать со стулом».
Он заводит патефон одной рукой, берет стул одной рукой, прижимает его к себе и танцует со стулом. Кружится. Потом ставит стул как-то неудобно, в углу сцены, садится в профиль к залу и что-то тихо говорит (что – не помню). А пустой рукав свисает с плеча и болтается. Вот и все. Остальное – как бы в тумане.
Я не знаю. хороша ли была пьеса и хорош ли спектакль. Но я помню, помню этого театрального человека. Ведь даже заметно было, что вторая рука у него есть, просто вынута из рукава и спрятана – рубашка топорщилась. И все же верилось, что он однорукий, и я сочувствовал ему именно как однорукому. И именно через него я ощутил по-новому и навсегда взрослую драму войны. Не понял, нет – ощутил, пережил театрально – а значит, ярче, сильнее, чем в жизни. Я не хочу сказать, что театр выше жизни. Я хочу сказать» что в театре чаще, чем в жизни, человек способен пережить чужое, как свое, совсем личное. А это всплеск человечности в человеке. Не обман это, не притворство, а разговор на каком-то более высоком уровне, чем: уровень фактов. Тот актер в спектакле сделал вид, что он однорук, и я поверил ему. Почувствовал – у него очень важная цель. Он занимается серьезным делом – он играет. Я догадался, что у него обе руки целы, но я увидел а нем калеку, более того: в нем одном – всех искалеченных войной.