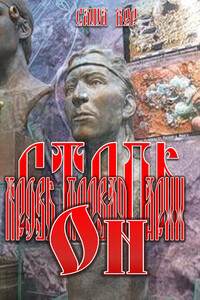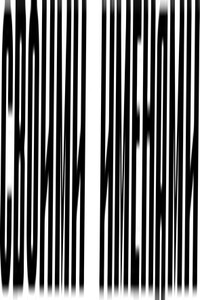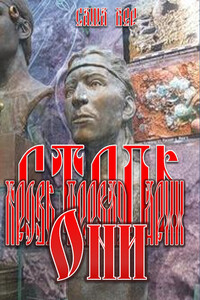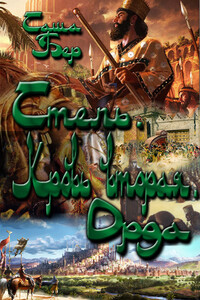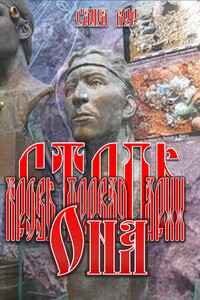Который день лил дождь, не утихая. Залил всю землю и сады, и все посевы, а реки в берега не умещаясь, разбухли, разлились безмерно, бесконечно и стало не понять где устья их, а где границы моря. Людской приплод, что жил здесь раньше безмятежно, забился в жутком страхе недопонимания, в лачуги жалкие, как звери в норы, попрятались в свои жилища повсеместно. У очагов с огнём священным[2] сплелись клубками будто змеи, где беспрерывно умоляли рассерженных на них богов, в недоумении пред ними распластавшись и об одном лишь вопрошали, за что им выпало такое наказанье? Что сделали они не так, в чём и когда нарушили законы мирозданья, и как загладить перед мирсотворящими великую вину свою, свершённую не в зле, а в недопонимании? Промок и кров, и стены напитались и пол покрытый сеном словно губка при каждом шаге хлюпает болотом, и дров сухих для очагов уж нет, а то что есть — дымят, трещат, коптят уж из последних сил, того гляди своею влагой заставят захлебнуться жизненный очаг…
Но за стенами города большого, что на возвышенности был поставлен, другая жизнь, другие нравы, жизнь избранных, уж нечета простолюдинам. В строениях из обожжённой глины, пронизанный канавками и самотёками умело мастеровым умом и прозорливостью ушедших предков. И крыши многослойные с покатыми углами ни ветру, ни дождю и шанса не давали проникнуть внутрь. Внутри строений было сухо и тепло, и дров хороших, да и жира для огня в достатке. А так как мерзкая погода остановила ход обычной жизни городской богемы, последней ничего не оставалось, как от безделья впасть в дурман запойный, да повсеместно власть отдать разврату. Так в беспробудном забытьи кутёж стоял уж все забыли день, который.
Лишь старый жрец, что был верховным, оторван был от общего безумья, он лёжкою лежал, прикованный к постели конечными своими днями бытия. Он полу-спал, полу-дремал, не ел, не пил, не жил, не умирал. При нём старуха у огня сидела тихо, и отречено, не сводя печальный взор от пляски язычков огня, о чём-то молча шевеля губами, и не понятно было толь сама с собой, толь с очагом беззвучную вела беседу. А где-то там из-за стены просачивался гам из голосов в порывах идиотских воплей, смеха, визга женщин в единый ком замешанный между собой во что-то непонятное для слуха: и гул стихии, лютовавшей по округе и тот разгул презренной похоти и бесшабашности морально опустившейся элиты.
Вдруг жрец очнулся, забытьё исчезло, боль притупилась, он открыл глаза, и капелька слезы скользнула по виску. Он сел на ложе, ноги опустив, и медленно окинул взором всё своё жилище. Остановил лишь взгляд на бабке у огня, наморщил лоб, как будто вспоминая: кто есть такая. Затем тихонько встал и медленно, беззвучно, словно тень, к входной двери проследовал, скользя безмерно длинным балахоном одеянья. И вышел вон, во мрак безумства естества природы. Там ветра тяжести порывы ударили во грудь и свежестью озноба и холодом небесной влаги хлестнули вдоль и поперёк, перехватив дыхание на миг. И пробирая до костей промозглая вода почти мгновенно пропитала одеянье и потянуло старческое тело к заполонённой лужами земле, как будто боги пожелали поставить старца на колени, но вместе с тем в то самое мгновенье ему в последний раз при жизни вернулась ясность разума былого. Он оглянулся и узрел старуху за дверным проёмом, что статуей застыла, цепенея страхом, узнал в ней первую жену. Он ей махнул рукой, мол в дом иди, не суйся. И не понятно даже для себя, зачем, он зашагал по лужам босиком на площадь церемоний к своим богам-асурам[3], без колебаний осознав, что боги уже в сборе и только ждут его прихода. Прошлёпав по воде, по всей площадке, он вышел на передний край и встал, как вкопанный, взирая с высоты полёта и город, что у ног его лежал и жалкие селенья за стенами и Море-Океан[4], бушующий чрез пелену дождя. Жрец всматривался вдаль и ждал неотвратимость чуда. Как никогда он был спокоен и сдался безысходности своей. И чудо началось, разыгрываясь пред очами старца векового. За занавесью из дождя увидел он, как родина асуров, священность вод которого казалось непоколебима от берега бежало, от дюн песчаных, пристань с кораблями бросив, дно оголив покрыв его лишь пеной. С огромной скоростью морская глубина куда-то исчезала, как будто чудище величиною с мирозданье одним гладком его всосало. Дно, оголённое и белое от пены в струях дождя, темнело постепенно и вот в дали, на сколько мог он видеть соединилось дно, оставленное морем и небо в общей темноте. Жрец напряжённо всматривался в мрак, но моря он уже не видел, оно исчезло, растворилось, оно куда-то утекло. Он ждал увидеть блики силуэтов своих богов к нему идущих, но как не напрягался он в желании хоть что-нибудь узреть, старик не видел ничего. Вдруг пустота его объяла, сожрав все внутренности без разбора и в голове настала ясность пониманья. Он тяжело вздохнул и выдавил себе под нос: «Ну, вот и все». Тут старец рухнул на колени, как будто скошенный невидимым серпом и замер пустотою в пустоте. Дождь барабанил лысый череп, порывы ветра тормошили тело, безвольное, бессильное, размякшее, квашня квашней, не в силах более сопротивляться миру тому, что был построен до него, частичкой коего он был и с коим он готов проститься…